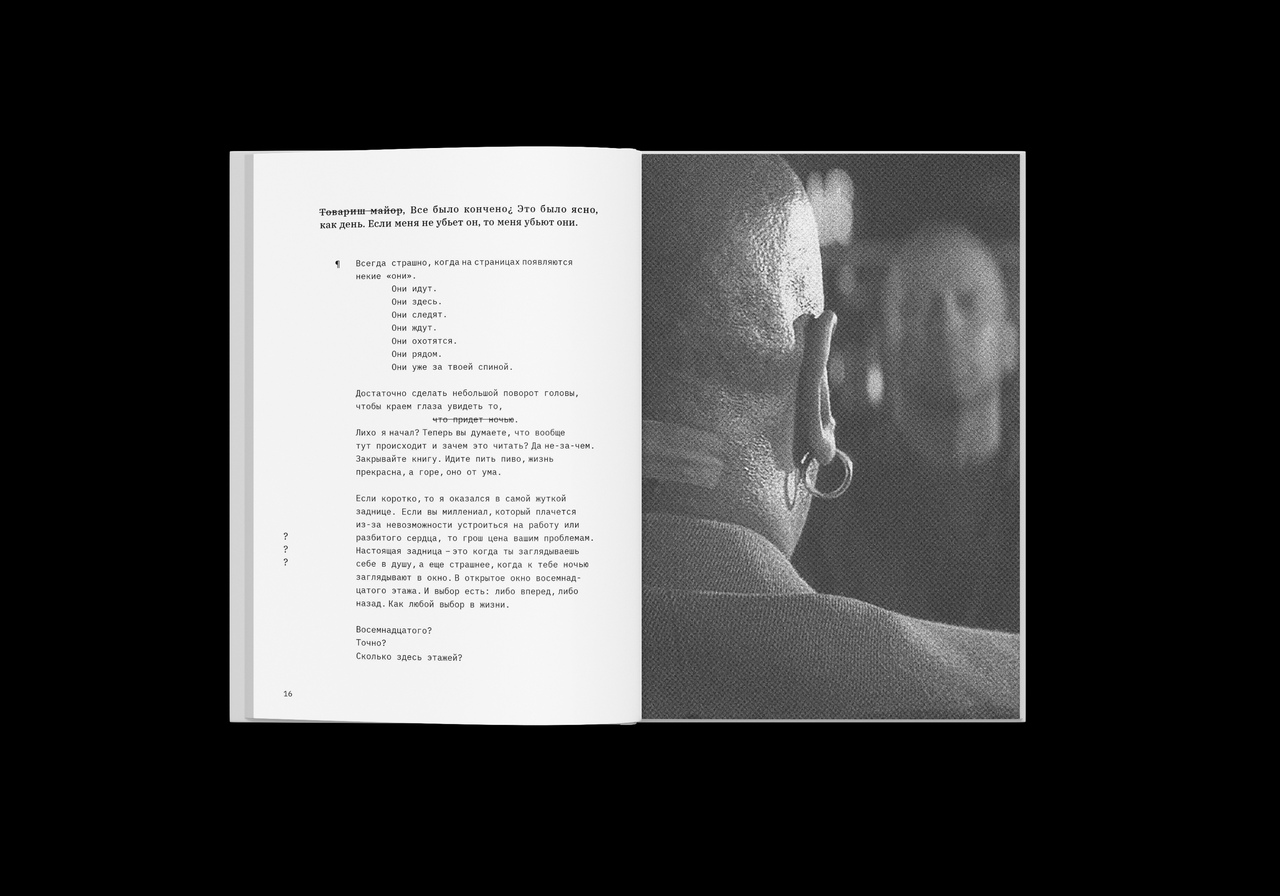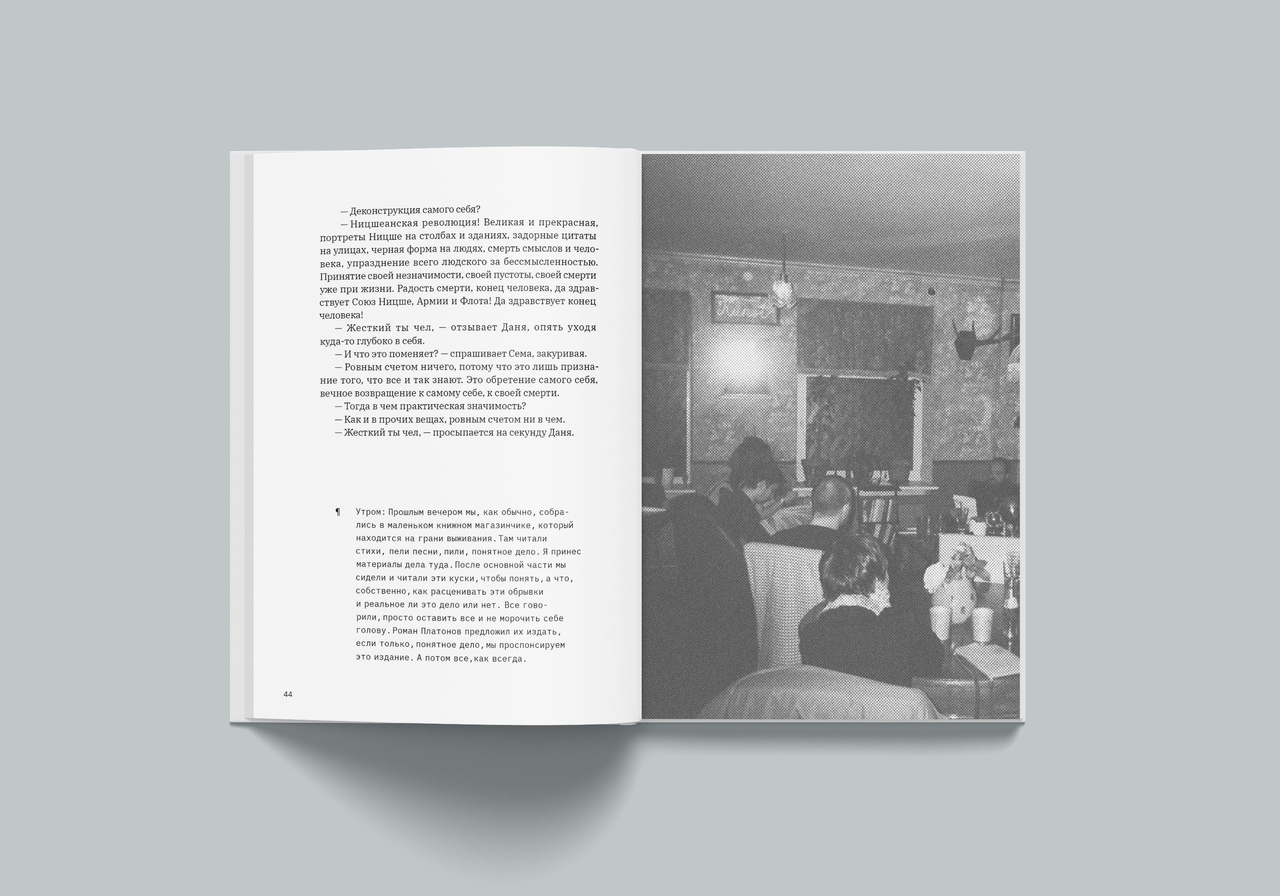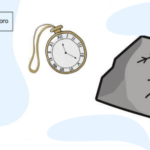«Из-под ногтей» Владимира Коваленко — нечто большее, чем авангардный роман. Это многослойное произведение, где детектив переплетается с любовной линией, а посты из экстремистского телеграм-канала — с философскими тезисами.
Создатель сообщества «Голодные философы» Никита Сюндюков в рецензии делится мнением о произведении и рассказывает, как роман связан с Ницше и Мамардашвили и как автор преодолевает цинизм постмодерна средствами самого постмодерна.
Нигилизм часто отождествляют с постмодернизмом. Мол, что у первого, что у второго одна цель — ниспровержение ценностей. С этой точки зрения нигилизм и постмодернизм ведут генеалогию от философии Ницше. Однако сам Ницше требовал не уничтожения, но переоценки ценностей. Да, переоценка эта должна была произойти на выжженном поле европейской метафизики, среди трупов этики и эстетики. Но вспомним неистовый плач Заратустры: «О, вернись, мой неведомый Бог! Моя боль! Мое последнее счастье!». Радикальная ницшеанская страсть к разрушению отнюдь не равна методике деконструкции. Деконструкция — уловка интеллектуалов по превращению всякой ценности в аморфную массу. Нигилизм Ницше не слепое отрицание и упразднение, но мост между смертью Бога и вечным возвращением. Следите за руками: «мёртвый Бог» Ницше, а вместе с ним и вся европейская традиция есть закланный агнец, Исаак, которого Авраам приносит в жертву ветхозаветному Богу. Ницше убил (философского) Бога, ибо того от него требовало его пророческое стремление к Вечному возвращению.
Русский писатель-постмодернист Владимир Коваленко открыто заявляет о себе как о ницшеанце. Читаем аннотацию его книги «Из-под ногтей»:
«Вы можете обвинять канал с таким же успехом, как если будете обвинять в убийстве нож. Он тут ни при чём. Он — средство. Я — средство».
С одной стороны, это развитие «пророческого» модуса ницшеанства; сам Ницше, кажется, полагал себя эдаким «негативным» пророком, который был вынужден предать Христа. «Не мир принёс, но меч…» Ницше — средство, я‑субъектный пророк разрушения. Здесь же — и постмодернистская традиция «смерти автора». Роман господина Коваленко можно действительно воспринимать как некоторую методичку, средство к постижению или уничтожению читательской субъектности. Принципиальная рваность повествования раздражает и интригует, и этой своей противоречивостью наводит на вопрос: читатель ли читает книгу или же книга читает читателя?
Ухватившись за эту мысль, открываю случайно попавшуюся страницу. Следователь допрашивает анонимного лирического героя о некоей Виктории. Герой отвечает вяло, строкой ниже — впадает в дрёму, одновременно служащую ответом на вопрос Следователя. В этой дрёме видится ему Виктория, кормящая уток. Герой стоит подле неё. Бытовой разговор перетекает в ссору — вновь, очень вялую, нельзя даже однозначно сказать, быт ли это или всё же действительная ссора, где нечто стоит на кону. Кажется, герои и сами отдают себе в этом отчёт: разговор их вял и безынтересен. Вдруг автор соглашается с оценкой читателя, решает не мелочиться и выдаёт истинную природу этого разговора-ссоры — означающее без означаемого.
А именно — две страницы, заполненные повторяющейся комбинацией букв: «слова слова слова». Мамардашвили писал, что если в отношениях двух любящих людей внезапно возникает «сакральная» необходимость «поговорить» — значит, всё пропало, говорить уже не о чем, корабли разошлись, понимание невозможно. Коваленко придаёт этому «пропало» художественную и в то же время весьма абстрактную форму: «слова слова слова…». Нету Виктории, нету Следователя, нету лирического героя: «Каждая ссора — ссора с самим собой».
Субъект мыслим только по отношению к объекту. Но что делать, если объекта нет и в помине, ведь «каждая ссора — ссора с самим собой»? Сформулируем вопрос иначе: как возможно освобождение от вязкого, болотистого дискурса постмодерна, отрицающего бытие субъекта? И здесь я берусь утверждать, что русский постмодернизм в действительности является преодолением постмодерна.
Сделаем шаг назад и вернёмся к понятию нигилизма. Автор «Консервативной революции в Германии 1918–1932» Армин Молер пишет:
«Русский нигилизм — напротив, это уже не порождение истощения и утомлённости… Здесь нет разрушения уже созданного не потому, что более нет пространства, а потому что никакие формы не в состоянии отказаться от простора, поскольку любое творение ставило бы под угрозы неистощимые возможности. Подобное отношение становится более понятным, если учитывать специфику русского мира, его бесправность, продолжительные споры».
Схожее направление мысли встречаем и у Лихачёва:
«Широкое пространство всегда владело сердцами русских, русская лирическая протяжная песнь — какая в ней тоска по простору».
И у Бердяева:
«Размеры русского государства ставили русскому народу почти непосильные задачи, держали русский народ в непомерном напряжении… Гений формы — не русский гений, он с трудом совмещается с властью пространств над душой. И русские совсем почти не знают радости формы».
При таком рассмотрении поэтики русского духа — как отчаянной и обречённой борьбы с пространством — постмодернизм представляется течением ему вполне органическим. К схожему выводу приходит «отец» русского литературного постмодернизма Битов:
«Я нахожу, что русская литература, начиная с Золотого века, была реалистична в этом усилии обретения области реальности. Позднее это было названо постмодернизмом… Скажем, Онегин, Печорин, Обломов — это всё люди без свойств или герои — инструменты познания. Это тени, тени людей, но очень важные».
Тени людей, «люди без свойств» — всё это терминология парадигмы «смерти субъекта». Коваленко номинально следует этой философской и художественной уловке. Миром «Из-под ногтей» правит Шаблон, некий автореферентный симулякр, бесконечно множащий сам себя. Кажется, если железная рука субъекта, будь то Автор или Суверен, не смогла объять пространства России, то это смогут сделать сети над-индивидуального алгоритма — Шаблона; схожим образом действовала организация «РосПостмодернНадзор» в предыдущем романе автора — «АхКуй», и здесь критика современности видна уже более явно.
Но поддаётся ли русское пространство полному снятию через диктат Шаблона? Что же сталось с теми самыми «непосильными задачами» и «неистощимыми возможностями», с «бесконечными спорами»? В русском реализме они явлены читателю как нереализованные потенции тех самых «людей без свойств»; нереализованные, но в то же время кричащие о себе, о своей «тоске по простору». В русском постмодернизме эти потенции оборачиваются, по Эпштейну, «поэтикой множащихся различий, сбоев, которые не прикрываются никакими натяжками логического, тематического или коммуникативного единства». Такие сбои постоянно происходят в текстовом пространстве «Из-под ногтей». Посреди апокалиптики урбанистических пейзажей, посреди бесконечного разговора Героя и Следователя, посреди досужей и пустой беседы друзей-интеллектуалов вдруг прорывается что-то естественное и искреннее, будь то воспоминание о прогулке с Викторией или сон о рыбалке с отцом:
«Образ — это единственное, что у нас есть, это динамика в оппозицию Шаблону. Образ даёт тебе свободу, только он вмещает в себя пространство воображаемого, твоей личной вселенной».
Внезапно автор путём собственной намеренной «оговорки» обретает утерянную субъектность — пускай и только на минуту. Так в русской литературе цинизм постмодерна преодолевается средствами самого постмодерна.
Отсюда принципиальная фрагментарность «Из-под ногтей», размытие границ жанра, незавершённость самого нарратива. Всё это — постмодернистские игры, имеющие, однако, метамодернистскую цель — романтической прорыв к «новой искренности» через напластования формалистического цинизма.
Полагаю, рецензию будет уместно завершить мыслью Эжена Мельхиор де Вогюэ, одного из первых западных исследователей русского романа:
«Реализм [русского романа] часто лишён европейского вкуса и метода; он в одно и то же время плохо организован и проницателен, но он всегда естественен и искренен. А важнее всего то, что он облагорожен моральным чувством, озабочен Божественным и исполнен сострадания к людям».
Читайте также наш материал «Андеграундный русский small-press: десять независимых издательств».