В издательстве проекта VATNIKSTAN выходит исторический роман «Донская утопия» о событиях на Дону в эпоху революции и Гражданской войны. Отдельные главы произведения можно найти на нашем сайте. Его автор, Сергей Петров, известен по книгам «Антоновщина. Последний удар контрреволюции» и «Бакунин. Первый панк Европы». Помимо этого, Сергей ведёт телеграм-канал «Донская утопия», в котором публикует интересные факты о прошлом местного казачества.
Литературный обозреватель VATNIKSTAN и писатель Владимир Коваленко поговорил с Сергеем Петровым о роли казаков в истории России, революционных событиях на Дону, особенностях новой книги и современной русской прозе.

— Как вы заинтересовались темой донского казачества, что натолкнуло на мысль об этом?
— Темой заинтересовался давно. По отцовской линии у нас в роду были донские казаки. Двоюродный прадед Леонтий Васильевич Кондратьев — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, закрыл собою дзот. Во время Гражданской был участником подполья, воевал в 1‑й Конной армии. В Азове его бюст стоит на территории завода, где он работал, памятник — в краеведческом музее. В городе его помнят.
И Шолохова прочёл я достаточно рано, и про Разина разных авторов читал, и про Булавина.
— У вас не было идеи написать про прадеда?
— Есть такая идея, но пока серьёзно к ней не подходил. Была идея написать сборник «Красные казаки», написать про каких-то героев и какое-то эссе про него вставить.
Мой прадед работал в ГПУ и, со слов бабушки, разоблачал банду «Чёрная кошка», которая была не московская «Чёрная кошка», а настоящая, кажется, азовская или ростовская. Есть такая мысль, но я пока к ней не подошёл вплотную.
— Звучит очень интересно, тем более сейчас снова актуальны отечественные детективные сюжеты.
— Я тоже так считаю. Хотя прадед уже упоминается в качестве литературного персонажа у Виталия Закруткина.
— Сейчас мало кто знает о роли казачества в дореволюционной России, можете коротко познакомить читателей с ней?
— Существует несколько версий происхождения донских казаков. Мы не будем здесь толковать — народ ли это был такой, или крестьяне, что бежали на Дон от засилия крепостничества, или и то и другое, и ещё версии есть.
Я лично принимаю вторую. Вольница там была, демократия, и «с Дона выдачи нет», и лихие экспроприации на территориях сопредельных государств в виде «походов за зипунами», и восстания против царей. Но была и помощь государству Российскому, защита его рубежей от набегов врагов, участие в войнах.
При Петре I, после восстания Булавина, вольницу прикрыли довольно кровавым образом. И с тех пор донское казачество превратилось в военное сословие, в слуг государевых, а потом ещё и полицейскими функциями их наделили, использовали при разгоне демонстраций.
Имелись привилегии. Но эти привилегии были не для всех, и их наличие не являлось данью уважения к традициям вольности, самобытности. Власть таким образом «отгораживала» казаков от крестьян и рабочих. Ты — казак, особенный, не мужик, не лапоть, царь тебя уважает и доверяет тебе, — вот что казаку вдалбливалось веками в голову. Ну а тот самый «мужик» воспринимал его как пугало. Вот и докатились, что в начале XX века за казаками прочно закрепилось прозвище «нагаечники».
— Какой пример можно привести, чтобы объяснить современному человеку, далёкому от темы казачества о том, что это было?
— Широких аналогий нет сегодня. Какие-то параллели, конечно, можно провести. Это было достаточно закрытое общество, грубо говоря, в казачьих полках не служили крестьяне. Зато в 1‑й Конной служили и крестьяне. Логвинов, например — я об этом писал в своём канале, — был конник красный, но не казак.
— То есть казачество — уже утраченная традиция, и мы не можем понять, что это такое было?
— Понять можно, но чётких примеров сейчас я бы не решился приводить. То в казачестве, которое есть сейчас, нужно разбираться, насколько там вообще казаки. В казаки можно записаться, но это же не совсем казачество. Есть даже казачьи соединения в ВС РФ и даже казачьи кадетские корпуса в Подмосковье или в Москве. Но вопрос, как много там казаков?
— Но ведь казачество — это в первую очередь сословие.
— Если серьёзно говорить, то казаков как выгоняли, так и принимали в казаки, поэтому принимать в казаки и должны казаки. С юридической точки зрения, может, и да — создано казачье общество, и оно в казаки принимает. Это, конечно, формально схоже, но не совсем правильно. Для казаков определяющим является земля, люди, которые столетиями на земле живут, традиции, которые соблюдают, то есть особый уклад жизни, а не номинальный фактор. Например, Родзянко принимали в казаки.
— А как на казачество повлияла Первая мировая война?
— Показала, что ничем казак от остального народа не отличается. Вошь не разбирает, казак ты или солдат. Первая мировая революционизировала, разложила казачество окончательно. А первые проявления этого разложения были видны ещё в Первую русскую революцию, когда некоторые казаки отказывались подавлять революционные выступления.
— Как вы можете характеризовать попытки казачества построить собственные автономии и государства?
— Если говорить о правительстве Алексея Каледина на Дону, то невнятная попытка обособления была изначально провальной. Самая главная причина — отсутствие народной поддержки. За красивыми словами о вольном Доне просматривалась война со всей Россией, и эта перспектива на тот момент простым казакам не нравилась. Поэтому кто-то из них решил снести калединский режим, а кто-то занял позицию нейтралитета.
Теперь о мыслях по поводу статуса родного края в среде революционного казачества. Снова две позиции. Одни — за советскую власть, другие — сами атаманов и буржуев прогоним, чужаков нам тут не надо. Последний вариант был бы губительным, скорее всего. Слишком много интересантов с разных сторон, ибо есть чем интересоваться: плодородные земли, угольные бассейны и так далее.
В итоге всё свелось к автономии, советской республике в составе России весной 1918 года, и никакого ущемления прав казаков там не было. Декларировался свободный союз рабочих, крестьян и трудового казачества. Просуществовала, она, правда, недолго, сожрал её «патриот Дона» Краснов при поддержке немецких друзей. А его попытка создания «казацкого царства» и вовсе смешна, ибо лжива насквозь. Хорошо «независимое государство» за немецкие деньги!.. Так что неудачные попытки.
— Чем тема казачества так важна для современной России?
— История казачества неотделима от истории страны. «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть…» — писал Лев Толстой в своих заметках. И успеху Октябрьской революции они тоже способствовали. Ведь это была мощная сила, и представьте, что бы было, если казаки всех войск, от Забайкалья, Амура до Дона и Кубани, Терека встали вместе на защиту своих генералов и атаманов!

— Вы имеете в виду заслуги Ермака и первопроходцев?
— Ермак, конечно же, прежде всего. Были казаки, которые земли разные открывали. Дежнёв был казачьим атаманом. И отношение к постоянным казачьим восстаниям — это же вполне матрица русского народа, о чём писал философ Бердяев. Он упоминал не совсем про казаков, но шире, такой казачий принцип, что русским близок как царь, так и Бакунин.
В русском народе это есть: тяга к бунту, например под предводительством и Разина и Булавина и Пугачёва, и при этом лояльность царю.
— Интересно, что сочетание порядка и понятных правил игры на большой территории сочетается с желанием автономии на местном и бытовом уровне даже сейчас.
— У казаков была широкая выборность, например выбирали станичных атаманов. Большого, на казну атамана царь назначал сам, но на местах были выборы и казачьи сходы. То есть это интересно самим фактом демократии и самоуправления одновременно с порядком и интеграцией в большую систему империи.
— Остался ли след казачества и какой он?
— Конечно, остался. Тяга к свободе, справедливости свойственна нам, во многом она пришла от казаков. С другой стороны — традиции воинской доблести.
И возрождается казачество повсюду, но как-то однобоко идёт возрождение, мне кажется. Больше выпячивается то монархическая, то антисоветская сторона. О революционных казаках что-то не вспоминают: они или «иуды», или «заблудшие овцы». Но самое действенное — просто молчать о них, будто их и не было!
— А почему тогда образ казака неотделим от Белого движения?
— Нужно окунуться в недавнюю историю, когда всё стало однобоко возрождаться. Стали активно указывать, что казаков репрессировали. Такое было, но не касательно всех казаков, как с некоторыми этносами, когда всех-всех казаков собрали и куда-то увезли.
При Сталине, кстати, тоже стали создаваться новые казачьи полки. Мне кажется, ассоциация с Белым движением — это следствие антисоветских процессов 1990‑х годов. И вообще, какое государство будет славить бунтарей, восставших и красных казаков? Лучше славить лоялистов.
— В книге очень хорошо показаны разные мировоззренческие позиции донского казачества, разность в восприятии революции, разница в выборе будущего пути развития как России, так и самого казачества. Насколько были оформлены казаческие общественные движения к началу революции и чем вызвана такая разница?
— После Февральской революции, в марте 1917 года, в Петрограде собрался Первый казачий съезд. Представители всех казачьих войск съехались. Сразу же стало понятно, что сборище это контрреволюционное даже по отношению к Временному правительству.
С одной стороны, делегаты ратовали за сохранение и укрепление воинской дисциплины, с другой — на съезде провозглашалось: все казачьи земли, их недра, леса, рыбные промыслы и прочее достояние — есть неприкосновенная собственность казачьих областей. От этого, оказывается, государство Российское будет только крепче. Но не возникло на этом съезде единодушия.
Делегаты-фронтовики из числа простого казачества быстро сообразили, что они чужаки на этой «свадьбе». Проблемы простых казаков-воинов и землепашцев, здесь обсуждать не собираются.
Так возникла первая казачья оппозиция, названная Центральным советом трудового казачества. Эти казаки стали собираться в доме № 28 на улице Шпалерная. Было заявлено: главная цель Центросовета — сплочение трудового казачества с рабочими и крестьянами.
Таким образом на общеказачьем поле возникло две политические силы: Союз казачьих войск, официальный орган, избранный съездом, и неофициальный — Центросовет. Представители последних разошлись до такой степени, что объявили о создании партии трудового казачества! Но партии сформироваться не дали, руководство Союза при участии контрразведки, вышибло Центросовет со Шпалерной, и окончательное пристанище казаки-революционеры нашли в Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов лишь как казачий подотдел. После победы Октябрьской революции подотдел перерос в казачий отдел ВЦИК.
Донской парламент, Войсковой круг, кипел не меньшими страстями. И понятие «трудовое казачество», «революционное» звучало в его стенах задолго до прихода большевиков и восхождения звезды героя революции Подтелкова. Подробности — в книге.
— Давайте поговорим предметно о книге. Почему именно донское казачество? Не кубанское, не терское, не сибирское или черноморское? Там тоже были самые драматичные события, как и по всей России.
— Частично я уже ответил на этот вопрос. Донское казачество мне ближе и интереснее по семейным обстоятельствам. А про кубанское и терское собираю материал, с ними связан один из героев «Донской утопии» — Автономов, его дальнейшая судьба. Я начал уже писать про него новую книгу, пилотное название — «Казак-юрист на бронепоезде».
— Как «Донская утопия» связана с вашей предыдущей работой «Антоновщина. Последний удар контрреволюции»? Как менялись ваши взгляды и интерес при написании этих книг, ведь в 2018 у вас вышла книга «Бакунин. Первый панк Европы»?
— Начну с «Бакунина». Литературный критик Алексей Колобродов в своё время верно подметил, что изначально отношение к герою у меня было подозрительное и ироничное, но по ходу написания оно менялась и превратилось в тёплое, чуть ли не родственное. И к Бакунину, и к Кропоткину я отношусь с огромным уважением и интересом.
С момента написания книги об антоновском мятеже я стал лучше понимать большевиков, больше стал интересен Ленин. С «Антоновщиной» «Утопия» пересекается в одном из временных отрезков, и один общий герой есть — большевик Владимир Антонов-Овсеенко. Сейчас, кажется, мне удалось раскрыть в его личности то, чего не было в предыдущей книге. Ну и тень одной из героинь «Антоновщины», Марии Спиридоновой, мелькает на страницах этой книги.
А вообще, идейно «Донская утопия» больше перекликается с «Бакуниным», ведь во взглядах революционного казака Николая Голубова что-то от идей патриархов анархии было, несмотря на то, что называл он себя левым эсером.

— Почему именно такое название? Как оно соотносится с попыткой донских казаков построить свою государственность?
— Не государственность скорее, а идею. Революционные казаки пытались сформировать свою идею, но времени не хватило и политического опыта у большинства не было, в этом их беда. Но та дерзость и решительность, с которой они шли против вековых, навязанных царизмом устоев, против новой либерально-буржуазной демократии и корниловщины, не могли не вызвать у меня восторга.
Тут утопия как светлая мечта об идеальном, справедливом, равноправном обществе, которая быстро растворилась. Утопия, которой можно посочувствовать. Идеи Каледина, а точнее Митрофана Богаевского, товарища Войскового атамана, оказались менее утопичными, но не состоятельными вовсе. Под ширмой слов о возрождении истинного духа казачества обслуживались идеи буржуазии и дворян. А ещё нет-нет да и выскакивало у соратников: «Дон — для казаков!» Что тоже утопия в отрицательном смысле, с уклоном в шовинизм или пародия на утопию.
Основания назвать книгу именно так, как видите, были. Ну и ещё есть одно. Не буду раскрывать, из содержания книги станет понятно.
— Можно ли сказать, что у казаков был свой сословный романтизм, похожий на националистический?
— Краснов углубил шовинистическую линию. Гитлер подыграл, что казаки — потомки гуннов и арийцы. Если брать Богаевского, то все его требования были серьёзнее. Речь шла о восстановлении Войскового круга, который до этого не собирался два века. Но этот процесс был быстро остановлен в свете революции. Там было много пробелов. Однако началась работа.
То же самое и про революционное казачество. Например, когда в Петрограде был организован союз казаков, они пытались формировать казачью позицию и идентификацию с точки зрения того, что казак — это свободолюбивый человек. Много было попыток, но они не были доведены до конца.
— Помешала Гражданская война, срезала искания казачества?
— Да. Как в случае белых, так и красных.
— Как вы пришли к идее создания этой книги? Как появились первые мысли о ней и как вы решили её воплотить в жизнь?
— Изначально была мысль написать о красном казаке Филиппе Миронове — она и сейчас жива. Но в 2019 году довелось побывать в Азове, Вёшенской, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, и вот именно в этой поездке возникла фигура Николая Голубова. Наткнулся на неё в одной из краеведческих книг, купленных в поездке. Я поразился парадоксальности человека — типичный казак, но не типичный революционер. Мне интересны такие люди: странные, непутёвые, не такие как все. Быть может, Григорий Мелехов тому «виной».
Потом вспомнил, что и в «Тихом Доне» Голубов фигурирует, в фильме Герасимова, но очень там его мало и показан он только как участник начала Гражданской войны. А Николай Матвеевич был революционер-самородок, один из самых влиятельных, авторитетных среди простых казаков ещё с марта 1917-го. Он кучу всего натворил до Октябрьской революции: и на Войсковом круге с революционными речами выступал, и митинговал в полках, разъясняя опасность корниловщины, и Каледина арестовать пытался чуть ли не сам… А об этом человеке не знают!
— Вы долго писали книгу?
— Год собирал материал. Затем продолжил сбор и сразу же занялся написанием. На это уже ушло два года.
— Что было самое сложное?
— Придумать финал, наверно. Изначально он замышлялся другим. Книга-то вышло художественной, не нон-фикшн, и о любви в том числе, поэтому пришлось поломать голову. Ночью ложился спать с мыслью чуть ли не о гениальности выдуманного финала, а просыпался с другой — как это плоско, какая чушь… Но, получилось, вроде.
— Поведаете основную мысль книги для наших читателей?
— Если коротко, то основная мысль выражена в эпиграфе — «Совершенства нет на земле, но мы к нему обязаны идти». Слова принадлежат тому самому Миронову. Но он, повторюсь, не герой этого романа. Любовь сильнее вражеской пропаганды — так тоже можно сказать. А если говорить о цели написания, то это возрождение памяти о необоснованно забытых именах.
— Книга сначала публиковалась в издании VATNIKSTAN в виде отдельных рассказов. Как именно вы пришли к этому формату?
— Был ковид, карантин. Двадцатый год. Я перечитал «Железный поток» Серафимовича. Очень был впечатлён, насколько здорово написано, и ни одного лишнего слова! Прочитал другие его произведения и написал серию очерков о Серафимовиче для VATNIKSTAN.
Потом решили продолжить сотрудничество, и я вспомнил о Голубове. Сначала тоже думал, что будут очерки, но они вышли рассказами, и сразу стало мне понятно, что не отдельные рассказы это, а единое сюжетное полотно.
— Почему вы решили публиковать материалы именно на VATNIKSTAN?
— Мне неизвестны другие ресурсы, которые публиковали бы историю с продолжением. К тому же — исторический сайт.
У VATNIKSTAN выходили другие книги, и с юридической точки зрения, как и с моральной, уместно и справедливо было выпустить её именно там, где значительная часть рассказов-глав была опубликована. Я и предложил руководителю проекта, Сергею Лунёву, этот вариант — прекратить публикацию на сайте, дописать новые главы, а затем выпустить книгу. Он согласился, ибо с частью текста был знаком, что гарантировало недолгое разрешение вопроса.
— Обложка книги отсылает к советским изданиям. Вы участвовали в оформлении книги?
— Она отсылает не только к советским изданиям, но и к начальным титрам фильмов Тарантино, и это здорово. Шрифт названия я имею в виду.
В оформлении участвовал, конечно. Пожелания у меня изначально были такими: красный фон и обыграть череп и кости — папаха с красной звездой и скрещённые шашки под ней. Решили подумать ещё. В итоге появился казак на коне, но красный фон остался.
Обложкой я доволен, и не только мне она нравится. Хорошая получилась обложка!
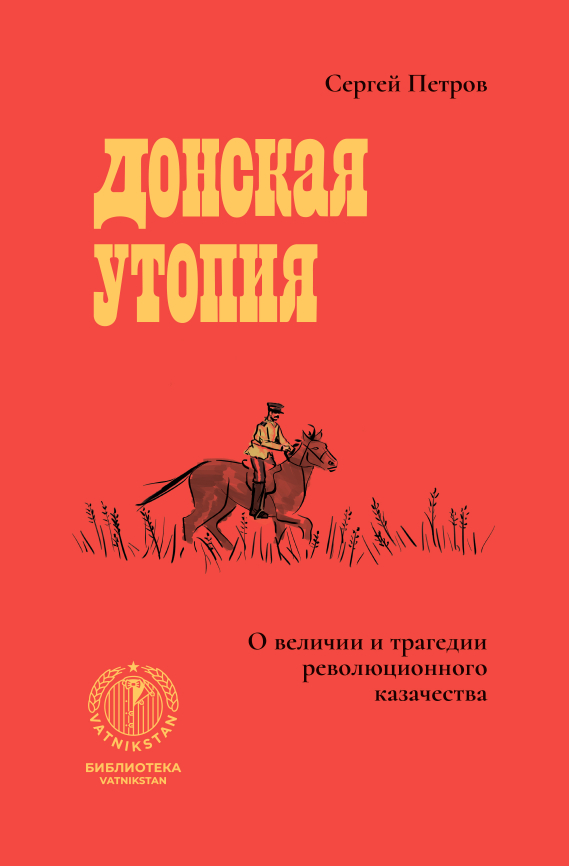
— А чем вдохновляет Тарантино?
— Я пересматривал его фильмы, и мой любимый — «Однажды в Голливуде», там альтернативный конец в повествовании относительно реальных событий. У меня была дерзкая идея взять и оставить Голубова в живых, но я наступил себе на горло.
Тарантино в этом плане оказал большое влияние. У него часто во многих фильмах есть отсылка к шрифтам и цветовой гамме фильмов 1950–1960‑х годов. И просто мне это симпатично.
— Роман исторический, но в каждом историческом художественном произведении есть доля художественного вымысла. Как вы поступили в своей книге, сколько вымысла у вас?
— Придумал любовную линию Николая Голубова, каюсь. И главную героиню, соответственно, придумал. Она журналистка, а потом и разведчица, агент Антонова-Овсеенко, что ведёт военную операцию на Юге России. Наделить её такими полномочиями я решил, когда прочитал в первом томе его (Овсеенко) «Записок о гражданской войне» слова благодарности в адрес разведчицы, имени которой он, к сожалению, уже и не помнит…
Имел ли я право вводить в книгу вымышленного персонажа? Книга художественная — значит, имел. К тому же, если в книге нет любви, она не так интересна. Любовь усиливает мотивацию героя.
Какие-то детали ещё придумал, отталкиваясь от тех вопросов или многоточий, которые есть в исторических источниках или явно навеяны белогвардейской пропагандой, что очерняла моего героя. Но исторической правды не нарушено.
— Насколько сильно на ваше произведение повлиял «Тихий Дон»?
— Влияние «Тихого Дона», безусловно, сильное. Я ни в коем случае не сравниваю себя с Шолоховым, эта вершина недосягаема.
По возможности, я старался не пересекаться с «Тихим Доном», как бы сложно это ни было. Да, у меня упоминаются переговоры Донревкома с Калединым, например, и бой под Глубокой, ведь это ключевые события. Но тот же бой я показываю с другого фланга, где действовал Голубов, пленивший полковника Чернецова.
Интересный исторический факт: узнав, что Подтёлков зарубил пленного Чернецова, Голубов с Подтёлковым поссорился. Наверняка, описывая конфликт Мелехова и Подтёлкова, Шолохов знал об этой ссоре и вселил как бы дух Голубова в Григория. Получилось очень хорошо, определило дальнейшие метания героя.
— Как вы оцениваете современный литературный процесс и отечественный книжный рынок? Какие в нём есть тенденции?
— О, это вопрос не по адресу. Есть критики литературные, крупные издатели — «законодатели» литературных мод, они скажут и про тенденции, и про направления. Больше хороших книг хочется, а не расхваливаемых.
Какие тенденции? Как читали люди интересующих их авторов, так и будут читать. Про СВО проза появится, это точно. Хочется верить, что честные, пронзительные произведения напишут именно фронтовики.
Что ещё? Искусственный интеллект для литературы — дурная тенденция. С этим улыбчивым чудищем с фигой в кармане пора прекращать заигрывать.
— Чем так страшен искусственный интеллект?
— Я имел в виду, что были случаи, что с помощью искусственного интеллекта писались романы. Если крупные издатели возьмут на вооружение, то будет плохо, потому что искусственный интеллект — это не мысль человека и творца, а мысль робота. И куда мы пойдём дальше? Будем ли мы обучать детей с помощью роботов? Ведь тексты роботов — это сухая компиляция, но мысли там нет.
— У вас вышли популярные книги, но вы не издавали их в крупных издательствах, предпочитая небольшие. С чем это связано?
— Всё так, да не совсем. Первая моя книга была издана в ЭКСМО. Она состояла из одноименной повести (чудовищной) и сборника рассказов — «Менты и люди». Всё поначалу шло нормально, но потом редакторы поменялись, рукопись про того же Бакунина долго рассматривалась… На книжной ярмарке «Нон-фикшн» познакомился с Григорием Пернавским главным редактором издательства «Пятый Рим». Это в 2017‑м было. Прислал ему своего «Бакунина». В 2018 году книга вышла. И «Антоновщину» они тоже издали.
У издательства-гиганта больше разных мощностей, возможностей разных. И всё же — конвейер, издано, забыто, новое издаём. А у того же «Пятого Рима» книг не так много, это штучный товар, их лицо. Поэтому относятся к ним с большим вниманием.
— Что бы вы изменили в современной книжной индустрии в России, если бы могли?
— Изменить? Мне нужны диктаторские полномочия. Шутка.
Вроде и много всего. С одной стороны, чуть ли не шоу-бизнес получается, а с другой — междусобойчик. Искоренять всякую монополию надо, кумовство, конкуренция нужна. Будет равенство, появится и братство.
Вот есть, например, сцены или площадки какие-то на книжной ярмарке — авторы-участники всех издательств на этих сценах-площадках должны выступить перед народом. А то складывается впечатление, что одно издательства в стране. Или два. Или три, всё… Само мероприятие, соответственно, анонсировать широко должны несколько раз в день, «из всех утюгов».
Тут капитализм, конечно, мешает. Значит, государство должно помочь. Кто отвечает за книгоиздание? Минцифры? А почему не Минбуквы? А может, Министерство культуры должно этим заниматься, которому библиотеки подчинены?
Самая главная проблема — отсутствие массового читательского интереса. Как его устранить, если современных авторов мы можем увидеть только на одном канале, в одной-двух программах и далеко не каждый день? Это одна часть аудитории, основная, она и современная литература пересекаются редко и случайно. А другая прекратила читать осознанно. Это те люди, что следили всегда за новинками, премиальной литературой и неоднократно на премиальной литературе обожглись. «Гениально! Новый Гоголь явился!» — кричат рецензенты, члены жюри. Человек покупает одну такую книгу, потом другую и понимает, что его попросту надули. Это не ко всякой книге относится, не ко всякому читателю, дело вкуса, да. Но факт, как говорил один мой начальник, имеет место!
Тут у меня конкретное предложение. Во всех премиях в жюри должны входить люди близкие литературе, но максимально удалённые от высших сфер литературного процесса. Работники библиотек, например, учителя русского языка и литературы. Они ближе к читателю, чем любой издатель, они знают, что ему нужно, и язык могут достойно оценить. У нас же что получается? Писателей оценивают писатели, издатели, критики, все так или иначе знакомы. Велик соблазн коррупции.
— Какие книги вы сейчас читаете?
— Дочитываю «Уничтожить» Мишеля Уэльбека. Не всё ещё прочитано у моего любимого писателя — Леонида Андреева. И «Казаки» Льва Толстого впереди.
— Какие самые главные отечественные исторические романы XX века Вы бы могли назвать?
— Выбор частично может показаться странным с точки зрения формата. Всякая ли названная мною книга, в чистом виде исторический роман? Но я высказываю свою позицию. По отдельным периодам. Революционное время и Гражданская война — «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Великая Отечественная — Виталий Закруткин, его «Кавказские записки». Перестройка и последние дни СССР — «Иностранец в смутное время» Эдуарда Лимонова.
— А книги XXI века?
— Есть хорошие исторические книги. Но должны выйти ещё. Можно назвать, но вопрос вот в чём: я в последнее время читаю много классики, много архивных документов и исследований, поэтому не совсем компетентен именно в современных исторических романах.
Есть отдельные исторические романы, но я бы не сказал, что они сопоставимы с «Тихим Доном». «Самодержец пустыни» Леонида Юзефовича — хороший роман, для кого-то культовый, но не великий и не художественный. Ещё один роман, он не исторический, но он меня прямо потряс в своё время, — это роман Павла Крусанова «Укус ангела». Я Крусанова считаю настоящим и большим писателем.
Читайте также главы из романа Сергея Петрова.











