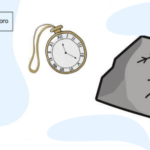На VATNIKSTAN стартует серия интервью с популяризаторами истории в медиа-пространстве. Первым собеседником стал Павел Пряников — бывший главный редактор «Русской планеты», «Таких дел» и «Живого Журнала», экс-замглавред «Ленты», создатель блога «Толкователь», соавтор телеграм-каналов «Красный Сион» и Proeconomics, ведущий исторической программы на радио «Комсомольская правда». Павел рассказал о своём взгляде на роль работорговли в становлении государственности на Руси, публицистике как составляющей части исторической науки и пути развития России.
— Как вышло, что Вы, выпускник биофака МГУ, начали заниматься историей?
— Я пришёл к истории из-за политизированности. Впервые в 1986 году, когда мне было 14 лет, мы с друзьями создали троцкистский кружок, увлекались идеями Бухарина и Рыкова, слушали «Голос Америки», радио «Свободу», то есть симпатизировали лево-демократическим идеям. Затем, в начале 1990‑х, я был у Белого дома и в августе 1991-го, и в октябре 1993-го. Был близок к левым структурам. Немного был в компании у Дугина, немного — у Рохлина в Движении в поддержку армии, был знаком с Виктором Илюхиным, работал в Госдуме.
Хотелось узнать, что лежит в основе той или иной идеологии. Большая заслуга Дугина — как бы к нему ни относились — в моём увлечении истории. Дугин, пожалуй, первым в начале 1990‑х проявил интерес у молодёжи к немейнстримовой истории, к каким-то историческим фактам, которые не фигурировали в советской и российской научной мысли. Например, он рассказывал о «консервативной революции», о Карле Шмитте и Рене Геноне, кажется, даже среди учёных мужей до конца 1980‑х только единицы их знали. Дугин популяризировал эти знания. Возможно, у Дугина слишком пристальный взгляд на второстепенные вещи, а идеи, о которых он рассказывал, никогда не определяли жизнь Европы и всего мира. Но всё равно он пропагандировал знания. Головин и Дугин организовали Новый университет, который проходил в библиотеке на Фрунзенской. Это примерно 1994–1995 годы. Там популяризировалась и средневековая наука. У Головина был упор на закоулки истории того времени. Когда рассказывают о ересях катаров, альбигойцев, тамплиеров, ты начинаешь просто лезть в книги и сам узнавать, настолько это увлекательно.
— А когда Вы начали писать про историю?
— В 1998 году, когда мы работали в ДПА, мы делали молодёжное крыло и создали один из первых исторических сайтов с левым уклоном. Он, конечно, не сохранился. Мы там пытались популяризировать какие-то левые теории не очень известные и просветить аудиторию о каких-то значимых фактах отечественной истории. Тогда плясали все вокруг ортодоксального марксизма, нам же интересно было изучать анархизм, фракционную борьбу 1920‑х годов. Задача была противопоставить определённую идеологию ортодоксальности КПРФ. Многие разделяли и разделяют левую идею, но левые идеи того извода, который преподносит публике Зюганов и компания, скорее отталкивают. Но есть потребность в параллельной левой истории, в изучении трудов Ленина (как это прекрасно было сделано Львом Данилкиным). Левая идея с 1990‑х годов стигматизирована. Привыкли, что левыми должны быть либо какие-то палачи, либо фрики, либо неудачники, беззубые старики, рабочие с закрытых заводов. Наше желание представить левую идею в качестве модной идеологии привело к первым публикациям по истории. А затем был «Живой Журнал» и я много начал писать на исторические темы.

У меня до сих пор был и есть интерес к каким-то альтернативным точкам зрения на известные факты. Скажем, мне интересна роль викингов и работорговли в основании Киевской Руси. Норманнская теория всем известна, кто-то её признаёт, кто-то нет. Некоторые пытаются усмотреть хазарский след в становлении государства на Руси, мой друг доктор исторических наук Николай Николаевич Лысенко видит скифско-аланский след в донесении цивилизации до славян. Но норманнская теория в том числе включает в себя главный вопрос, зачем сюда пришли викинги. Викинги шли всё время в богатые и тёплые страны. Либо шли монастыри грабить во Францию и Англию, либо в Сицилию и на юг Италии.
И тут они приходят в ледяную пустыню, где нет ни городов, ни денег, ни серебра, ни золота. И зачем им было основывать тут свои фактории? И приходишь к выводу, что здесь был свой привлекательный экспортный товар — рабы. Викинги пришли на территорию нынешней России, чтобы ловить славян и финно-угров, а затем продавать на невольничьих рынках, в первую очередь, Багдадского халифата. Последние археологические находки в Ладоге и Смоленске демонстрируют, что гораздо больше находят арабские, нежели византийские монеты (а я слежу за археологией, мне археологические находки видятся более ценными источниками, нежели многократно переписанные летописи). Можно сделать вывод, что путь был не «из варяг в греки» в Константинополь, а путь был, скорее всего, через Каспий в Иран. Константинополь был точкой, скорее, для политического диалога, в меньшей степени для торговли.
Меня в ЖЖ кляли, когда я по крупицам копался в этой теории, находил данные по количеству привезённых рабов, вплоть до того, что одна знакомая девочка знала итальянский язык и смотрела для меня в архивах стоимость рабов в Генуе и Венеции в XIV веке. Начинаешь понимать, что работорговля играла значительную роль. Затем уже продавали рабов не сами русские. Те, кто жил на юге того региона, который мы называем Новороссией, продавали рабов вплоть до XVIII века. Последняя партия рабов с территории нынешней России была продана из Северного Кавказа в 1830‑е годы. После этого складывается картина, которая описана и Ричардом Пайпсом, и Иммануилом Валлерстайном, такими, я бы сказал, экономическими историками: Русь, а затем Россия — это территория экстенсивного хозяйства. Продаётся то, что дала природа. Никакой прибавочной стоимости. Сначала были рабы, затем меха, лес, железо, зерно, теперь нефть, газ. Нужно с этим смириться.
Я часто дебатирую с неолибералами и сталинистами. Первые мечтают, что мы какие-то институты заведём и само всё закрутится, а вторые утверждают, что заводы сделаем и тогда опять жизнь начнётся. Путь России в другом, он всю жизнь экстенсивный. К этому нужно приспособиться. Нет ничего стыдного в сырьевой стране. Есть сырьевые страны первого мира. К примеру, Австралия, у которой экономика по своему соотношению один в один российская. 80 % экспорта — это сырьё: железо, газ, уголь, нефть, шерсть, мясо. Австралийцы при этом не переживают, что надо сделать свой компьютер, запустить ракету в космос или создать своё машиностроение. Другой пример — Новая Зеландия, сырьевой экспорт 90 %, это шерсть, древесина, продукты сельского хозяйства. При этом развитая страна первого мира. Новая Зеландия — не какая-то маленькая страна, её площадь равна площади объединённой Германии. Норвегия живёт рыбой, нефтью и газом. Канада — чуть более развита. Но тем не менее значительная часть экономики Канады — нефть, древесина и сельское хозяйство.
Также про Россию. Дело не в том, что мы много нефти добываем, а дело в распределении дохода. 1 % населения России владеет 71 % всего национального богатства. Такого нет ни в одной стране мира. Условия в России не приспособлены к высокоточному труду или какой-либо инноваторской деятельности. Можно их затачивать десятилетиями, но все хотят жить здесь и сейчас.
— На Ваш взгляд, может ли историк быть и публицистом? Или же он должен быть сконцентрирован на своей тематике и не лезть в другие сферы?
— Идеально, чтобы историк сочетал в себе самые разные ипостаси. Историк должен уметь и работать с архивными материалами, и быть знакомым с археологией, и, конечно же, должен быть публицистом. Историк должен делать вывод из своих изысканий, хоть многие классические академические историки на это не решаются. Должна быть и экономическая история — историк должен уметь оперировать статистикой, таблицами, цифрами. Пожалуй, полноценно цифры рассматривает только клиометрика. У нас самый известный историк, работающий в этом направлении, — это Миронов. Может быть огромный пласт самый разных данных. Историк не должен замыкаться.
Я недавно поместил табличку темпов роста Российской империи с 1870 по 1914 годы. Формально данные подтверждают то, чем любят козырять монархисты, наблюдался рост экономики. Конечно, не в том виде, что в 1930 году, если бы не революция, мы бы Америку догнали. Но когда смотришь в табличке, что подушевой рост был в России на уровне одного процента — это ниже, чем во всей Европе (кроме Италии, там рост был на уровне 0,7 процента). То есть рост был, но при этом страшно увеличивалось население России и этот добавочный продукт распределялся на большее количество людей. В конце концов демографический рост сыграл злую шутку с Российской империей. Россия попала в пресловутую мальтузианскую ловушку и не знала, как из неё вырваться.
Если смотреть на историю под циничным углом (скажем, как в моей беседе с Пожарским и Михаилом Световым), то действительно период с 1914-го по 1947‑й — это время избавления России от избыточного населения, выхода из мальтузианской ловушки. Избавлялись от тех людей, кто был выкинут из деревни, но кого нельзя было быстро пристроить. Сталин затеял индустриализацию, чтобы использовать те миллионы молодых мужчин, что появились в деревнях, фактически избыточное население. Когда погибло в войнах, умерло и эмигрировало с 1914 года по 1947‑й миллионов 60, Россия подошла относительно современным европейским государством. Во-первых, к этому времени уже половина населения жила в городах. Во-вторых, рождаемость была чуть больше 2 человек в семье. Через жестокость, террор и коллективизацию, кровавость которых никто не оправдывает, страна была модернизирована. Царь на такие шаги не решался. Конечно, Россия должна была быть модернизирована на век раньше — во время реформ Сперанского, именно тогда надо было выгонять крестьян с земли, создавать города и индустрию, всё то, что делала Европа в то время.
— То есть Вы публицистику не отделяете от истории?
— Когда археолог находит монеты, делает опись и сдаёт в архив, не рассказывая, что это значит, это плохо. Должны быть выводы. Нельзя просто сидеть в архиве и выписывать цифры, нужно рассказывать, что эти цифры значат для общества.
— На Ваш взгляд, в России модернизация возможна только в виде принудительной государственной политики?
— Сейчас никакой жестокости, никаких «скреп» и никакого принуждения уже не нужно. Общество уже относится к развитому второму миру. Это, конечно, ещё не Европа, но это уже не архаика, которая была в начале XX века, когда была грамотность на уровне 20–25 %. Тогда было доисторическое общество в деревне, не знавшее ни городов, ни частной собственности. У меня отец служил в Кронштадте на флоте с 1951 по 1956 год. К ним приходили ребята из деревень, которые впервые видели паровоз.
Сейчас уже всё более равномерно. Россия — это гибридная страна. Если исходить из каких-то общепринятых теорий, я, например, ориентируюсь на Адама Пшеворски, что в бедном обществе не может быть демократии и который называет устойчивую точку, с которой начинается демократия, — 13–15 тысяч долларов на душу населения в год. Если мы посмотрим на эту точку, то Москва уже давно её преодолела. В Москве уже давно можно было вводить демократию. Питер на этом уровне. Сахалин тоже дорос до таких доходов. Вся остальная Россия — безнадёжная Африка в прямом смысле слова. Это 5–6 тысяч долларов подушевой ВРП. А на Северном Кавказе — 2–3 тысячи на душу населения. Это уровень самых бедных стран мира. Но основная часть России — крупные города — совершают постепенный переход к демократии. Вообще, по многим параметрам Москва и Санкт-Петербург — это развитая Восточная Европа. Москва — это скорее Чехия, а Питер — это такая Польша по уровню жизни. В течение двух выборных сроков, к середине 2020‑х в Москве и Питере будет установлена демократия на уровне советов и городских дум.
— А что Вы подразумеваете под демократией? Это некая институция, с помощью которой осуществляется управление в обществе?
— Не только управление, но и контроль.
— Но на данный момент есть тенденция в западном мире, что наоборот, людям становится неинтересно ходить на выборы, голосовать, участвовать в политической жизни. Демократия, как считают многие политологи, испытывает кризис. Не кажется ли Вам, что видение демократии в качестве эталона устарело?
— Я думаю, что нет. Демократия не устарела. По-прежнему люди из второго и третьего мира заимствуют образцы управления из первого, то есть западного европейского мира. Молодёжь в Китае, в Южной Корее, в Индии всё равно стремится в первый мир. Они пытаются институты брать из западного мира. Уже никому не хочется гаремов или рубить головы. Даже Саудовская Аравия, где существует супертрадиционалистское общество, меняется в сторону европеизации. Женщинам разрешили водить машину и получать высшее образование, появились мультфильмы и кинотеатры. Никто не хочет жить в архаике. Весь мир видит, что альтернативу архаики может предоставить только европейское общество. До конца 1980‑х другой альтернативой был Советский Союз, в принципе тоже европейский путь развития, но чуть более консервативный. Теперь мир не видит другого примера.
Попытки составить альтернативу приводят страны в тупик — к примеру, Венесуэла или Иран. Мир глобализирован. Даже сексуальные девиации распространяются, как бы они ни раздражали — придётся привыкать с этим жить. Хотим мы или нет, но геи будут служить в армии и заключать браки. Это уже данность. Раньше, например, женщины не учились в вузах, а увидеть мужчину без головного убора был нонсенс, а сейчас никто не носит шляпы. Всё меняется.
Нужно просто в более цивилизованное русло это внести. Тем более, Россия может учиться на чужих ошибках — мы видим, что есть в Европе: мигранты, усталость от демократии. Можно извлечь из этого уроки. Бесконтрольная миграция и люди, приезжающие только за пособиями, однозначно вредны. 30–40 лет назад мигранты были совсем другими. Турки, марокканцы, югославы уезжали, скажем, в Германию, чтобы стать немцами. Сейчас же идёт полное отторжение: «дайте нам анклавы, мы будем там жить по шариату, а не вашим законам, мы будем жить так, как хотим».
Мы видим примеры тоталитарного мышления у меньшинств. Очень легко объявить себя меньшинством и требовать себе за это преференции, неважно будешь ли ты сексуальным меньшинством или религиозным. В принципе мы видим эти проявления уже и в России. У нас определённые группы обосабливаются, обижаются напоказ и требуют, что перед ними извинялись. Это церковь, представители северокавказских республик, ветераны, инвалиды, казаки и прочие. Это общемировой процесс.

Западная Европа лет на 20 опережает Москву. С этим нужно свыкнуться и готовиться. Когда у нас будет введён welfare state, то негры и арабы побегут уже к нам. Вот когда у нас пособия будут по 500 евро, а Россия к этому неизбежно придёт, то мы будем испытывать те же проблемы, что и Запад. И у нас будут тоталитарные меньшинства, которые будут третировать большинство и требовать внеюридические преференции. Нужно к этому быть готовым.
— Насколько уместно использовать термин «европейская цивилизация»? В Европе существуют разные типы культуры: есть англо-саксонский мир, который во многом является доминирующим, в то же время есть Восточная Европа, которая очень похожа на нас, есть Португалия с Испанией, где есть традиция авторитарного правления.
— Всё равно есть универсальные ценности для этих культур. Основа — это иудеохристианская мораль, гуманизм, ценности эпохи Просвещения, опора на плюрализм и научные знания. Ну а далее уже проистекают юридические практики — верховенство закона. В то же время у различных регионов Европы есть свои особенности. Для нас подойдёт путь Восточной Европы. Мы никогда не станем второй Англией, но мы можем стать второй Чехией или Венгрией. В этих странах есть синтез своих культур и глобального влияния. У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, нам стоило бы учитывать опыт Венгрии, где сосуществуют кальвинисты и католики. Но ориентироваться нужно не на политическую систему тех стран, а на устройство общества.
— Последний вопрос из получившегося политологического цикла по поводу меньшинств. Насколько действительно важная проблема для общества права ЛГБТ, извинения перед меньшинствами, феминизм и так далее, или же эту повестку форсят СМИ? В повседневной жизни ЛГБТ не особо воздействуют на жизнь людей, если у кого-то есть знакомые геи, то им обычно наплевать на эту ЛГБТ-повестку, по крайней мере в России.
— Мне кажется, что это важная тема. Это очень опасно, когда какое-либо меньшинство начинает получать преференции по праву того, что они просто меньшинства. Будучи историком левого направления, марксистом, я считаю, что в основе жизни общества лежит экономика. Если говорить простыми словами, то кто-то «просёк очень удобную фишку», что можно получать определённые экономические преференции, требовать квот в университетах и повышенных социальных пособий, объявив себя тем или иным меньшинством. Представляется вредным, когда, например, университет объявляет, что 40 % студентов должны составлять цветные, вне зависимости от их оценок.
В России уже зарождается подобное отношение. Например, казаки. Очень легко себя объявить казаком, создать небольшую общину, требовать у муниципалитета помещение и гранты. Но предпосылки у этого поведения экономические. Всё меньше и меньше остаётся рабочих мест и социальных лифтов. Неприкаянная молодёжь сознаёт, что у неё нет шансов пробиться, кроме как объявить себя казаком или каким-то особым гендером.
— По сути, это ханжество?
— Да, по сути, это ханжество. В России мы тоже это наблюдаем, но если на Западе это ЛГБТ, цветные, феминистки, то у нас эти меньшинства — казаки, какие-то патриотические кружки, байкеры. Это тоже меньшинства, которые требуют к себе особого внимания и уважения. Можно отнести к меньшинствам даже Русскую православную церковь, людей искренне верующих и посещающих храмы очень мало (4−5 %). Мы в чате «Красного Сиона» обсуждали нападки на Харви Вайнштейна. Вымывается мир богатых стариков, которые долго занимают свои посты в Голливуде и не дают продвинуться молодёжи. В Голливуде системный кризис. Конечно, никто специально не просчитывает: «вот, я сейчас настучу на Вайнштейна и сразу займу его место», но подсознательный момент всё равно существует.
— Вернёмся к истории. Вы подтверждаете, что сейчас наблюдается рост интереса к истории? Он обусловлен столетием революции?
— Интерес есть, я наблюдаю его последние два года. Я долго сетовал, что в медиа не появлялись исторические проекты. Мы ещё в «Русской планете» выпускали, как минимум, один исторический текст за день, и он был одним из самых читаемых материалов, набирая по 20 тысяч просмотров. К тому же у исторических текстов есть большой лисий хвост, связанный с переходами из поисковиков. К примеру, у сайта Polit.ru, который проводит с 2004 года публичные лекции, 25–30 % посещаемости — это переходы из поисковиков на старые тексты-лекции. Ещё старые тексты можно поднимать и периодически размещать в социальных сетях. The Times может выложить заметку столетней давности. Это вневременные тексты.
А последнее время я начал наблюдать, что в разных медиа, включая маленькие, появляются исторические рубрики. Я вижу, что «Коммерсант», где Жирнов был всегда прекрасным архивистом и делал историческую рубрику во «Власти», запустил полноценный журнал «Коммерсант — История». В «Ведомостях», пусть в форме колумнистики, но начали обращаться к каким-то историческим фактам. Полезным было проведение медиа-хакатона, посвящённого 1937 году. Организовал мероприятие «Мемориал», а участвовали «Секрет фирмы», «Ведомости», «Медиазона» «Коммерсант» и другие издания. Журналисты могли работать с архивными данными и на их основе могли делать большие тексты. Впервые произошло подобное мероприятие — и его стоит приветствовать. Отметил бы, конечно, проект Зыгаря про 1917 год. Популяризировались журналы «Историк», «Родина», «История России», а главное, в газетах появляются вкладки с историческими статьями.
Считаю, что интерес к истории связан с ещё одним фактором, на который мало внимания обращают: интернет прекратил быть средой только для молодых. Никто не понимал, как работать с возрастной аудиторией. Было мнение, что пользователи интернета не читают большие тексты, однако аудитория тех, кто старше 50, наоборот, привыкла к большим текстам. Я могу судить по своим родственникам, которым около 60 лет. Их поведение в интернете сильно отличается от того, как ведёт себя молодёжь, они не серфингуют, у них есть определённое количество любимых сайтов, которые они ежедневно посещают, и могут откладывать большие тексты, попить чай, выкурить сигарету и вернуться к тексту, они могут растянуть лонгрид в 40 тысяч знаков на три часа. Для них интернет вместо книжки.
— Историей в основном увлечены люди постарше?
— Моё ощущение, что да. Молодёжь тоже увлекается, но им интересна другая форма подачи — вот то, что сделал Зыгарь с «Проектом 1917», — мемчики, картиночки.
— Как Вы оцениваете освещение 1917 года в медиа?
— Мне кажется, в медийном плане было всё хорошо — очень многие писали и отмечали юбилей, а вот на государственном уровне полное затишье. Я всё время ждал, что будут какие-то массовые мероприятия, какие-то большие круглые столы и конференции (не узкие академические) и больше эту тему будут затрагивать по телевизору, но нет. Однако же интерес к 1917 году был очень большой и он рос откуда-то снизу, а не был навязан сверху.
— Появился отдельный жанр — телеграм-каналы по истории. Почему именно в телеграме появилось много маленьких медиа по истории, в том числе и очень узкоспециализированных?
— Это, конечно, особенность площадки, особенность аудитории. Мы видим, что телеграмом пользуются в основном мужчины. В качестве примера возьмём результаты нашего опросника «Красного Сиона». Оказалось, что нас читает 75 % мужчин. В обычных медиа подобной тематики соотношение мужчин и женщин 60 на 40 %, у «Красного Сиона» — 75 на 25 %. Это жители крупных городов. Москва, Питер, города-миллионники. Это не очень молодые люди (в основном 30–35 лет). Это гики и это люди, читающие во время рабочего дня на работе. Это журналисты, пиарщики, маркетологи, те, кого можно было обозначить понятием креативный класс. Это не бухгалтеры или кассиры, скажем, в Сбербанке, где интернета на рабочем месте нет и нет возможности почитать что-либо. В телеграме в основном публика, которая работает так: сделал работу за час, у тебя есть 15 минут свободного времени — почитал ленту. Это другая публика.
— Мобильность — важный фактор?
— Я бы не стал его переоценивать. Многие читают с мобильников, но также многие читают с десктопных устройств.
— Назовите пять своих любимых исторических телеграм-каналов.
— Это, безусловно, ваш VATNIKSTAN назову, «Место памяти» Евгения Бузева. Это канал «Возвращение в Брайдсхед». Я бы назвал канал Егора Сенникова, я бы не сказал, что он чисто исторический. Ещё канал «Вершки и Корешки» от редакции «Горького» по истории литературы.
— Расскажите про блог «Толкователь». Это довольно старый сайт?
— Я его веду с 2011 года, на нём больше двух тысяч текстов. Начинали мы с моим другом Димой Пономарёвым. Дима потом отошёл от редакционной части работы и помогает время от времени технически. Время от времени мне кто-то пишет на сайт. У меня довольно много прошло хороших авторов. Например, с «Толкователя» начинал нынешний замглавред «Ленты» Володя Корягин, который ещё не будучи журналистом, но уже являясь арабистом, писал про русско-арабские связи начала XX века. Сейчас у меня меньше времени им заниматься, потому что у меня есть телеграм-каналы, на которые уходит много времени. Я мечтаю, что из «Толкователя» вырастет большой гуманитарный сайт.
— То, что последние несколько лет на «Ленте» выходит много исторических текстов, это Ваша заслуга?
— Да, я как раз пришёл в «Ленту» для того, чтобы создать гуманитарный отдел. Взял пять человек из «Русской планеты». Мы освещали исторические, социологические, культурологические темы. Некоторые остались на «Ленте». Это Михаил Карпов, Андрей Мозжухин и Виктория Кузьменко, они распределены по разным отделам, но продолжают писать в том числе про историю и гуманитарные темы.

— У Вас было много спецпроектов исторических ещё на «Русской планете», вроде серии интервью с диссидентами или проекта про столетие Первой мировой войны. Это было нечто новое для медиа тогда. Как Вы решились делать подобные материалы?
— Я сразу понимал, что это будут читать. Подобные материалы будут лицом издания. К примеру, спецпроект по Первой мировой войне шёл больше года, над ним работало пять человек, каждый день выходила хроника, было много фотогалерей, мы оцифровали сами многие издания того времени. У нас был специальный человек, который оцифровывал газеты из наших библиотек. У нас была команда по Европе, которая брала издания из местных изданий тоже времён Первой мировой войны. Были впервые нами оцифрованы некоторые турецкие и сербские газеты. У издателей из «Мортона» была мечта сделать бумажный многотомник на основе этого спецпроекта. Один том — это оцифрованные газеты, второй — историческая публицистика, третий — краткая хроника. Я понимал, что у людей есть интерес, поэтому я стал экспериментировать с историческими темами.
Ещё у нас был корреспондент, который отправлялся на лекции гуманитарной тематики, которые ежедневно проходят в Москве и записывал их. Расшифровал интервью, лектор подтверждал его — и публикация готова. Я был уверен в тематике Первой мировой войны и советских диссидентов. Но в некоторых материалах я сомневался было. Один раз Стас Наранович пошёл на лекцию по древнегреческой философии, заполненную всякими терминами. Что меня поразило, расшифровку этой лекции активно читали. За сутки было восемь тысяч прочтений. За неделю материал собрал 20 тысяч просмотров. Для меня было удивлением узнать, что такой большой аудитории интересно знать о представлениях неоплатоников о душе.
Ещё меня вдохновлял успех «ПостНауки». Я рад за этот сайт. Насколько я знаю, сайт даже вышел на самоокупаемость. Небольшие издания вполне могут существовать на свои деньги. Я думаю, что в ближайшие два года многие телеграм-каналы обзаведутся полноценными редакциями. Конечно, не как Mash, а на четыре-пять человек. Полагаю, что будет, как с пабликами на ВК, над которыми работает пять-шесть человек. Только в Телеграме тексты умнее, чем в ВК.