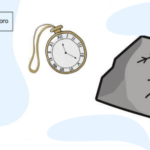Думаю, когда в нашей литературной рубрике выкладываю что-то я, да ещё и из Несмелова, читатели ожидают увидеть море дальневосточной экзотики: тайга, хунхузы, тигры, китайская речь и тому подобное. Но такой перекос в сторону экзотики сильно искажает картину: ведь в Маньчжурии жили обычные русские люди, которые работали, любили, женились, изменяли и разводились. И жизнь у них была чаще всего примерно такой же, как и на русском Дальнем Востоке до революции.
Сегодняшний рассказ я подобрал неслучайно. Мне очень хотелось показать обычную жизнь русских в Харбине. Из азиатчины здесь разве что китайский слуга. Подобная история о неверной жене могла произойти в любом из городов бескрайней Российской империи. Ценность рассказа в другом: написан он с почти чеховской иронией, и несмотря на относительно большой размер, читается очень быстро, почти на одном дыхании. Кто-то найдёт эту историю смешной, а кто-то грустной, но вряд ли она оставит равнодушным хоть кого-нибудь.

В центре истории находятся бухгалтер, своеобразный рассеянный профессор, его молодая неверная жена и её любовник, шахматист и мошенник. Уже по одним действующим лицам можно понять, что сюжет неизбежно будет напоминать комедийные пьесы XIX века. И всё же, несмотря на знакомую до боли структуру, рассказ не кажется вторичным: в конце концов, в подобных историях всегда важно наполнение, а не форма, а оно, как и всегда у Несмелова, прекрасна.
Сергей Таран

«Портрет Луки Пачиоли»
Арсений Несмелов (1889−1945 гг.)
Впервые опубликовано в журнале Рубеж № 7,
Харбин, 1944 год.
I
Началось с того, что Ивану Никаноровичу Телятникову, бухгалтеру солидной фирмы «Робинсон и сын», сослуживец сказал здороваясь:
— Вчера вашу супругу встретил. С Тезеименитовым шла, с шахматистом.
Это было утром, служащие только что собирались. Потирая озябшие руки — дело происходило зимой, — Телятников что-то пробурчал в ответ и направился в свой кабинетик. На другой день кто-то уже другой и не на службе опять сообщил Ивану Никаноровичу о том же:
— Вчера вашу Марь-Ивановну в магазине повстречал. С Тезеименитовым была.
И пошло, и поехало — всё чаще и чаще, как бы вскользь, между прочим, сослуживцы и знакомые стали сообщать бухгалтеру о том, что они видели его супругу, и всегда вместе с нею упоминался Тезеименитов. Их встречали то на улице, то на бульварах, то на реке. Иногда они просто шли, иногда «прогуливались под ручку», иногда болтали и были веселы, иногда же «Марь-Ивановна чего-то грустная была».
В начале Иван Никанорович не обращал внимания на эти сообщения, сейчас же забывал о них; потом они на несколько минут начали портить ему настроение, и, наконец, он стал даже бояться их, потому что, в конце концов, понял, что эта информация, касающаяся его супруги, поступает к нему неспроста, что она вынуждает его к каким-то действиям. Но ни на какие посторонние дела и действия Иван Никанорович совершенно не был способен. Лучший бухгалтер в городе, высокий мастер счетоводного искусства, он, в сущности, любил только свое дело, интересовался только им и ничего больше знать не хотел. Даже то, что касалось его жены и собственной чести, оказывалось где-то в стороне от главной линии его жизни и только мешало отдаваться полностью любимому занятию.
Такие люди изредка встречаются в каждой профессии, и Иван Никанорович Телятников был одним из них. Он, ученый счетовод, любил бухгалтерию до страсти, как художники и музыканты любят свое искусство. И он не отказывал себе в удовольствии глубокомысленно поговорить с сослуживцами о бухгалтерии, причем в его речах этот, казалось бы, такой сухой предмет вдруг оживал и становился интересным.
— Вот вы, молодой человек, — говорил он кому-нибудь из своих помощников, великому путанику в счетоводстве, — вы думаете, наверно, что бухгалтерия так себе, мелкое дело? А знаете ли вы, что великий Гёте сказал о двойной бухгалтерии, великий немецкий поэт? Не знаете? Так я вам скажу: что двойная бухгалтерия — одно из красивейших изобретений человеческого духа. Да‑с, так у Гёте и сказано — духа!
А знаете вы, где в первый раз о бухгалтерии упоминается? Не знаете, конечно. Так я вам и это доложу. В Библии. Что, глаза раскрыли? Да, батюшка, в Библии, в книге Премудрости, глава сорок вторая, стих седьмой. Там каждому сыну Израиля приписывается: «Если что выдаешь, так выдавай счетом и весом и делай всякую выдачу и прием по записям».
И, с чувством глубокого превосходства взглянув на растерявшегося и даже иногда несколько испуганного собеседника, продолжал:
— А отцом двойной бухгалтерии был итальянский ученый муж Лука Пачиоли, почему она и называется итальянской. Это, батюшка мой, целая великая наука, а вы халатничаете. Да‑с!
И с миром отпускал нерадивого счетовода.
Но если Телятников журил нерадивых, то с великой охотой приходил он на помощь счетоводам неспособным или неудачливым. Если кто-либо из них, просчитав где-то копейку и пробившись с поверкой с полдня, робко подходил к нему и просил помощи — такому человеку отказа не было. В таких случаях Иван Никанорович гордо выпрямлялся, взгляд его загорался, как у полководца перед сражением, он брал из рук младшего сослуживца счетные книги и углублялся в работу, не щадя ни труда, ни времени. В облаках табачного дыма, в стуке костяшек, в звяканьи счетной машины он вдохновенно работал, отыскивая копейку-дезертирку. И находил ее.
Это была победа, и Иван Никанорович торжествовал ее. Он звал в кабинет подчиненного, и надо было видеть, каким величественным жестом его указательный палец втыкался в то место страницы счетной книги, где им была отыскана затерявшаяся единица. Тут было и величие, и сознание своего превосходства, и снисхождение к неудачнику. Ибо ко всем незаурядным качествам Ивана Никаноровича надо еще прибавить и доброту эту доброту сотоварищи и подчиненные любили ученого бухгалтера. Пожалуй, именно любовью к Телятникову и объяснялось их добросердечное желание предупредить коллегу о слишком участившихся встречах его супруги с господином Тезеименитовым. Но, повторяю, как всякая неуклюжая услуга, это доставляло бухгалтеру только неприятность, портило ему настроение.

Своей молодой супругой, Марией Ивановной, красивой дамой с тонким личиком, Иван Никанорович был вполне доволен. Она заботилась о нем, содержала в порядке его гардероб и хорошо кормила, соблюдая все указания доктора, ибо за последний год супруг стал прихварывать желудком — его то поташнивало, то давило под ложечкой. Она никогда не таскала его по вечерам ни в кино, ни в театры, ни на маджан, вполне предоставляя ему его вечера, которые тот целиком употреблял на то, чтобы, копаясь в чужих бухгалтерских книгах, находить в них промахи, ошибки или жульничество. Причем работу на дом брал не столько ради приватного заработка, ибо жалование получал отличное, сколько ради славы, которую любил.
Мария Ивановна называла Ивана Никаноровича Ванюшей, папочкой и даже в минуты особой нежности — «моей счетной машиночкой»; она целовала его, когда это полагалось, но постель стелила ему в кабинете, на чудном кожаном диване: «Чтобы папочка работал сколько он хочет. А то он стесняется, раздеваясь и ложась баиньки, будить свою верную Мурку».

И Иван Никанорович ценил эту заботливость о нем его супруги и жил с ней покойно и счастливо.
И вдруг какой-то Тезеименитов! Что за дикая фамилия? Никакого Тезеименитова он не знал и даже не мог припомнить человека с такой фамилией. Что за Тезеименитов, откуда он? Зачем он нужен в его размеренной, покойной и ученой жизни? Но упоминания знакомых и сослуживцев о встречах Марии Ивановны с этим таинственным человеком всё продолжались, продолжались неуклонно, теперь уже с какими-то худо скрываемыми полуулыбочками. И вот однажды, возвратясь со службы, Телятников решил поговорить по этому поводу с Марией Ивановной. И между ними произошел такой разговор.
И.Н. (за обеденным столом, засовывая салфетку между верхней и следующей пуговицами жилета). Мурочка, кто это такой, Тезеименитов?
М.И. (зарозовев, явно — от неожиданности вопроса). Тезеименитов? Какая странная фамилия! Я не знаю такого, не могу припомнить.
И.Н. (не замечая перемены в лице жены, наливая воду в стакан). Не знаешь? А мне сказали, что ты вчера каталась с этим Тезеименитовым с горки на реке.
М.И. (уже совершенно красная и обозленная). Вот как! Ты начинаешь слушать сплетников и… оскорбляешь жену! Уж этого я от тебя никак не ожидала!
И.Н. (удивленно). Я оскорбляю тебя? (Смотрит на нее.) Почему ты волнуешься, дорогая? Какие же тут сплетни, если ты вчера с кем-то каталась с горки? Но почему всегда Тезеименитов? Мне уже с полгода все говорят о нем, только я забывал тебя спросить. Такая странная фамилия!
М.И. (успокаиваясь). Тезеименитов?.. Ах да, вспомнила! Это один шахматист.
И.Н. (вскидывая густые, седеющие брови). Да, да, мне говорили — шахматист. Ты стала играть в шахматы? Выучилась? Это я одобряю — шахматы родственны бухгалтерии. Ведь я тебе, кажется, говорил, что Лука Пачиоли, отец двойной итальянской бухгалтерии, был в то же время и выдающимся шахматистом. Он даже написал трактат о шахматной игре. Он был монахом, этот Пачиоли. В то время все ученые люди были монахами. Почему бы тебе не пригласить этого Тезеименитова к нам?
М.И. (голосом, полным благодарности). Ах, моя счетная машиночка, я уж и сама думала об этом, но не решалась. Видишь, я зашла раз с приятельницей в кафе, где собираются шахматисты… ну, и познакомилась там с этим, с Тезеименитовым. Он стал учить меня играть… Он такой некрасивый, обдерганный, даже жалкий, но я пристрастилась…
И.Н. (уточняя). К шахматам?
М.И. (кокетливо). Ну, да! Не к нему же! Он прямо жалкий. Прямо как ребенок. Но все-таки чуть-чуточку симпатичный. Бесхитростный такой. Мне даже показалось, что шахматисты чем-то похожи на бухгалтеров — всё молчат, о чем-то думают. Не от земли какие-то. И вот я взяла его к себе в учителя. Ведь он призы берет в шахматы!
И.Н. (уточняя). Взяла к себе в учителя. Но где же он тебя учит?
М.И. (настораживаясь). То есть как это где? Что ты хочешь этим сказать? В этом кафе, конечно. Но почему ты не кушаешь бульон? Это же куриный, тебе можно.
И.Н. (берясь за ложку). Да, да! В клубе. Ну, зачем же в клубе? Пригласи его к нам, познакомь со мной. Играйте дома.
М.И. (вскакивает, обегает стол, целует мужа). Я всегда и всем говорю, что ты самый лучший человек в мире! (Целует.) Вот тебе, вот тебе, вот тебе! (Мечтательно.) Этот чудак Тезеименитов говорит, что у меня есть способности. И вдруг я возьму на турнире приз, а? Вдруг моя, то есть наша фамилия будет напечатана в газетах? Ведь это слава, моя дорогая счетная машиночка! Я так буду счастлива! А ты, ты?.. Все скажут: у умного папочки такая умная мамочка…
Иван Никанорович чмокнул супругу в розовую щечку и, улыбаясь, снисходительно подумал: «Она еще совсем ребенок. Не надо лишать ее невинного удовольствия. Она так много работает по хозяйству, бедняжка».
В этот вечер Мария Ивановна не ушла из дому: глубоко растроганная то ли добротой мужа, то ли детской его наивностью, она, как в былые года, решила этот вечер посвятить ему. Они вместе ужинали. Мария Ивановна, значительно улыбнувшись, сказала: «Я хочу вина!» — и достала из буфета бутылку портвейна. И в этот вечер она не позволила Ивану Никаноровичу уйти в свой кабинет, на холостой диван. Но, хотя и осчастливленный, супруг ее спал эту ночь плохо: то, что уже несколько месяцев как бы давило под ложечкой и к чему он уже начал привыкать, вдруг ночью, от вина, должно быть, перешло в резкую режущую боль, и ему стало плохо.
II

Если не считать нездоровья Ивана Никаноровича, которому он не придавал большого значения, считая хроническим катаром желудка, то всё после этого вечера вошло в норму, подытожилось или сбалансировалось, если выражаться бухгалтерским языком. Теперь, когда ему говорили, что его жену видели с Тезеименитовым, то он внушительно отвечал:
— Да, да, я знаю… Это наш хороший знакомый.
И, в конце концов, сослуживцам надоело докладывать ему о прогулках Марии Ивановны с шахматистом; теперь досужие люди заинтересовались его увлечением шахматной игрой и часто спрашивали об успехах. И некоторые, посмеиваясь, говорили:
— Смотрите, Иван Никанорович, не сделал бы Тезеименитов мат вашей королеве!
Но, не принимая намека, Телятников отвечал:
— Он отличный шахматист. С ним приятно играть.
Обычно, когда приходил Тезеименитов, оказавшийся хорошо воспитанным молодым человеком, с мягким, уступчивым характером и томным взглядом, а приходил он ежедневно к обеду и несколько раньше, чем сам Телятников («Василий Константинович только что перед тобой пришел», — говорила обычно Мария Ивановна), они, покушав, садились за шахматную доску. То есть начинали игру Тезеименитов с Мурочкой, Иван же Никанорович лишь присаживался помогать супруге. Но уже через несколько минут он говорил ей, видя, что она путает ход коня с ходом ладьи:
— Опять ты невнимательна, женушка! — и завладевал игрой.
Зевающая Мурочка уступала ему свое место за шахматной доской с превеликим удовольствием и, усаживаясь на диван за спиною мужа, оттуда весело болтала с Тезеименитовым.
А тот, дававший супругам любую фору, то с удивительной ловкостью выигрывал партию, то с не меньшей ловкостью и грацией проигрывал ее. Выиграв, Иван Никанорович радовался, как ребенок, и начинал вслух мечтать о карьере шахматиста.
— Ведь я, так сказать, ученик великого Луки Пачиоли, основателя двойной бухгалтерии и прекрасного шахматиста, написавшего даже трактат о шахматной игре, — говорил он. — Вот только надо мне несколько хороших руководств купить и проштудировать. Тогда я с вами без всякой форы, пожалуй, играть возьмусь.
— А что же, конечно, — охотно соглашался Тезеименитов, никогда не споривший с дурными партнерами. — У вас, знаете, есть в игре стиль, а это самое главное. Вам надо только познакомиться с теорией игры; это, конечно, необходимо, — и осторожно в день первой встречи осведомился, что это за Лука Пачиоли.
А Ивану Никаноровичу только этого и хотелось. Он тотчас же забыл об игре и весь отдался увлекательному рассказу об удивительном итальянском монахе, жившем в XV веке, монахе-ученом, написавшем целый ряд замечательных трудов по математике, а главное, до сего дня почитающемся за изобретателя изумительной двойной системы бухгалтерии, именуемой итальянской.
И свой рассказ Иван Никанорович закончил таким соболезнованием:
— И вот, знаете, горе: нигде я не могу достать портрет этого величайшего человека. Где я только не искал и не спрашивал — нету! Даже за границу, в Рим, знакомому человеку писал и деньги послал, но ни ответа, ни денег назад не получил.
— Правда, Василий Константинович! — подтвердила с дивана Мурочка. — Прямо Иван Никанорович измучился с этим Лукой и меня измучил. Я, бывало, даже во сне видела этого монаха. Хоть бы вы помогли — у вас полгорода знакомых.
— Хорошо‑с, — охотно согласился Тезеименитов. — Я обязательно спрошу, поищу. Тут у меня один знакомый итальянец есть, у него гравюр много. Я обязательно попытаюсь.
И теперь почти каждая игра начиналась или заканчивалась разговором о портрете Луки Пачиоли. Но и Тезеименитов не мог отыскать портрета, хотя и не терял надежды на удачу.
В игре проходило часа полтора-два, после чего Мурочка отправляла мужа в кабинет отдохнуть — он любил перед своими вечерними занятиями подремать с часик, — а сама почти ежедневно начинала собираться в кино, на концерт или в театр и просила Тезеименитова проводить ее. И тот, привставая в кресле, отвечал галантно:
— Приказывайте, Мария Ивановна!
Собственно, на этом и заканчивался семейный день Ивана Никаноровича — чаще всего случалось так, что он ложился спать еще до возвращения супруги домой, ужиная очень легко, как того требовал доктор, пользовавший Телятникова.
И в один из визитов доктор сказал Ивану Никаноровичу, что хотел бы поговорить с его супругой, чтобы через нее назначить ему особый пищевой режим, а так как этот режим очень сложен, то он, при рассеянности своей, его едва ли запомнит.

На другой день, утром, когда Иван Никанорович собирался на службу, Мурочка, поправляя мужу, уже надевшему шубу, кашне, вдруг спрятала свое лицо у него на груди и зашептала, словно сконфузившаяся девочка:
— А у Мурки есть для папочки радостная новость!
— Неужели Василий Константинович портрет Луки Пачиоли нашел? — обрадовался Телятников и, подняв голову Мурочки, заглянул в ее красивые темно-золотистые глаза. В каждом из них блестело по чистейшей слезинке.
— Вечно ты со своим монахом! не без досады ответила дама, выпрямляясь. — Я, кажется, буду матерью. Ты… ты рад?
— Да, конечно, — довольно равнодушно ответил бухгалтер. — Я очень рад, Мурочка! — и он, притянув к себе лицо жены, поцеловал ее в благоухающую щечку.
Но в то же время он помнил, что до службы ему ровно семнадцать минут ходу, что время истекает и на более продолжительное проявление чувств он не имеет права, если не хочет опоздать на занятия, к началу же их он за все двадцать лет службы в фирме «Робинсон и сын» не опоздал еще ни разу. И хотя супружеский долг требовал, Телятников это прекрасно сознавал, еще хотя бы десять минут пробыть с женой, чтобы разделить ее радость, но он этого не сделал, подумав: «Почему Мура не сообщила мне об этом на полчаса раньше? Тогда, конечно, можно было бы еще поговорить. Вот она, женская несообразительность!»
— Я очень, очень рад, дорогая! — все-таки торопливо повторил он. — Это такое счастье, иметь наследника. Я сделаю из него первоклассного бухгалтера, — и, уже застегнувшись и направляясь к двери, закончил: — Вот когда ты сегодня пойдешь к доктору Колыванову по поводу моей диеты, ты и о себе с ним поговори. Тебе тоже теперь нужен, наверно, особый режим. Ну, прощай, а то я опоздаю.
«Какой-то бесчувственный! — недовольно подумала Мурочка, закрывая за мужем дверь. — Деревянный! Ведь не догадывается же он? Нет, куда ему!» — и она направилась в свою комнату, к туалетному зеркалу, чтобы привести себя в окончательный порядок. В полдень Мурочка ожидала Тезеименитова и заказала повару к завтраку любимые шахматистом свиные отбивные с макаронами. Но до этого времени она хотела еще побывать и у доктора, потому что чувствовала, что он вызывает ее неспроста.
От доктора Мария Ивановна пришла домой притихшая, грустная. Ничего не сказала бою, принявшему у нее пальто, не спросила, готов ли завтрак. Прошла в гостиную и, сев в кресло, немножко поплакала, потом, утерев слезинки и посмотрев на себя в зеркало, молча, не плача уже, сидела, глубоко задумавшись. Красивое личико ее было озабочено, на лбу легла морщинка.
Когда же явился Василий Константинович, она, закрыв дверь в прихожую, бросилась к нему и, точно так же, как утром у мужа, спрятав личико у него на груди, заплакала, громко всхлипывая.
— Что с моим котенком? — спокойно спросил Тезеименитов, вытирая мокрое от снега лицо носовым платком. — Что случилось с девочкой?
И, взяв в свои ладони голову женщины, отстранив ее лицо от своей груди, он стал целовать ее в губы и мокрые глаза, которые та блаженно закрывала.
— Я была сегодня у доктора, — стала рассказывать Мария Ивановна, — у Вани Колыванов нашел рак. Дни его сочтены. Скоро он будет очень мучиться. И главное, — продолжала она торопливо, — Колыванов говорит, что операция уже безнадежна, что лучше его не мучить.
— Жаль, очень жаль, — ответил шахматист, и хотя в его голосе звучало сочувствие, но в глазах вдруг появилось выражение напряженной зоркости, обычно являвшееся на смену их томности, когда в игре он ловким ходом намеревался разбить планы партнера. — Вот бедняк!
И, нежно обняв Мурочку за талию, он повел ее к дивану, в то же время думая: «Мы одного роста с Телятниковым, и я не так много полнее его. Вероятно, его костюмы подойдут мне». Мария же Ивановна, нежно прижавшись к Тезеименитову, покорно шла туда, куда он ее вел. И когда они сели рядом, она, опять приникнув к его груди, залепетала, как беспомощная, испуганная девочка:
— Но ты не оставишь меня, не бросишь, когда он… когда я останусь одна? Скажи, поклянись мне сейчас же! Поклянись на образ, на икону. Я хочу!.. Перекрестись!
Тезеименитов исполнил ее желание.
— Мы будем счастливы, клянусь тебе, — ответил он. — Я нашел в тебе всё, что искал всю жизнь: душу, ум, красоту. И ведь у нас же будет ребенок! Неужели ты думаешь, что я подлец?..
— Нет, нет! — целуя лицо друга, лепетала Мария Ивановна. — Но… это известие… Оно ошарашило меня… И ты знаешь, я ведь сегодня, как ты хотел, сказала ему, что я беременна!
— А он? — насторожился Тезеименитов.
— Он, — и Мария Ивановна безнадежно махнула рукой. — Он заговорил со мной о портрете этого Луки… как его… Пуч, Пач…
— Да, этот портрет! — спохватился Тезеименитов. — Есть у меня какой-то подобный портрет. Нашел, наконец. Какой-то средневековый монах, но черт его знает, тот ли? Кто говорит, что это Данте, кто — Коперник…
— Ах, всё равно! Какая разница? Лишь бы древний монах. Доктор сказал, что теперь для Ивана Никаноровича главное — покой. Его надо радовать, баловать и утешать.
Тут, говорит Колыванов, даже на обман можно пойти ради человеколюбия. И ты знаешь, мне так жаль Ваню. — Мурочка отстранилась от Тезеименитова и взялась за платочек. — Все-таки он удивительный человек, такой добрый, честный, снисходительный. За все эти восемь лет я от него ни разу не слышала грубого слова! И если бы не ты, не ты, мой милый, если бы не эта любовь, разве бы я не осталась ему верной? — И Мария Ивановна заглянула в томные глаза шахматиста.
— Разве я не понимаю и не ценю этого, родная моя? — прочувствованно ответил Тезеименитов. — Разве я не знаю, что ты не такая, как все? — и, кладя свою ладонь на ее кулачок с зажатым в нем носовым платком, как бы заставляя ее этим движением переменить тему разговора, опять заговорил о портрете Луки Пачиоли.
— Видишь, ангел мой, — начал он рассуждать вслух, — если я выдам ему за Луку Данте или Коперника и он поймет это, то мне будет неудобно. Я окажусь в ложном положении, покраснею. Это нехорошо — краснеть перед кем-нибудь и оправдываться. Тут надо что-то придумать.
И Тезеименитов задумался, от чего лицо его приняло неприятное, жесткое выражение.
Мария Ивановна не спускала глаз с лица любимого человека, и оно казалось ей прекрасным.
— Ну, придумай что-нибудь, ты такой умный! — сказала она и вдруг, наклонившись, поцеловала руку Тезеименитова, лежавшую на ее руке. Он руку не отнял, только поднял глаза на женщину.
— Вот что, — наконец вымолвил он. — Ты скажешь Ивану Никаноровичу, что видела во сне этого монаха. Что он тебе показывал куда-то рукой, что ли. Ну, говорил что-то. Потом мы устроим спиритический сеанс с блюдечком — я это умею, не беспокойся. И тут монах скажет, что портрет его надо искать в таком-то магазине. А на другой день я принесу портрет. Тогда, если этот монах окажется даже Ньютоном, то виноват в этом буду не я, а сам же этот Лука. Понимаешь?
— Да… но, Вася, разве не грех так обманывать умирающего человека? — робко спросила Мурочка. Тезеименитов поднял на нее недовольные глаза.
— Не знаю, право! — пожал он плечами. — Может быть, и грех. Как хочешь! Но ведь Ивану Никаноровичу так хочется иметь этот портрет, а больного следует утешать, успокаивать, как говорит доктор и ты сама. И понимаешь, в чем дело? — оживился Василий Константинович. — Ведь рано или поздно, но муж твой поймет, что умирает. Со всей же этой чертовщиной, которую мы затеем, в его душе окрепнет уверенность в том, что там, — Тезеименитов болтанул рукой куда-то за диван, — на том свете, у него уже есть и учитель, и друг, этот самый Лука. Как хочешь, конечно, мой котенок, но доведись мне умирать — я бы рад к такому обману. Тут всё дело в искусстве, в тонкости, чтобы не разочаровать его.
— Но ведь есть священники, Вася. Они напутствуют.
— Священники, священники, а Лука — Лукой. Он же тоже монах. И это не идет против религии, ибо я сам глубоко верующий человек, но только подкрепит его веру, а следовательно, облегчит последние дни его жизни. Тут простая логика вещей.
— Да, ты прав, — согласилась Мурочка. — Во всяком случае, если это и грех, то я беру его на свою душу.
Тут бой из столовой доложил, что завтрак на столе, и беседа была окончена.
IV

Спиритический сеанс состоялся через несколько дней и прошел удачно.
Трехногий столик подскакивал и топтался на месте, блюдечко ерзало по столу, указывая буквы. Мария Ивановна, включенная в цепь, не только сжимала скрюченным мизинцем большой палец шахматиста, но, выражая свои чувства, надавливала под столом туфелькой и на ботинок своего соседа, чего, конечно, по условиям спиритической чертовщины вовсе не требовалось.
И после, когда Тезеименитов решил окончить сеанс и зажгли электричество, — прочли запись, сделанную самим, присутствовавшим на сеансе, духом Луки Пачиоли.
Лука сообщал:
— Я здесь. Я пришел, так как уважаю господина Телятникова. Пусть он не беспокоится о своей болезни. Он вылечится. Мой портрет имеется в магазине «Факелы», он лежит на третьей полке, направо.
Все страшно ликовали, но больше всех Иван Никанорович.
Завтра же, в обеденный перерыв я отправлюсь в «Факелы» и спрошу о портрете. Воображаю, как удивится его хозяин, когда я сам укажу ему место, где он должен искать.
— Стоит ли папочке самому трудиться? — запротестовала Мурочка. — Василий Константинович так всегда любезен, что и на этот раз не откажет в услуге.
— Да, конечно, я с удовольствием, — ответил Тезеименитов. Но он не стал протестовать, когда хозяин всё же сам пожелал завтра пойти в магазин.
Забеспокоившуюся же Мурочку шахматист успокоил пожатием ее ножки под столом: «Ничего, мол всё прекрасно, я всё устрою!» И действительно, устроил, предупредив утром владельца магазина, своего дружка по шахматной игре.
Получив портрет, Иван Никанорович сиял от счастья и радости. Для изображения носатого старика в монашеской рясе и круглой шапочке каноника он приобрел дорогую золоченую раму, и в таком виде портрет был повешен на стене в гостиной над диваном. И что всего удивительнее, так это то, что с этого момента бухгалтер стал поправляться — его уже не рвало, и кушал он с большим аппетитом.
Обеспокоенная этим обстоятельством, Мурочка бросилась к доктору Колыванову.
— Мужу лучше, — сказала она. — Вы знаете, мне кажется, он начал поправляться.
— Вы говорите это таким тоном, как будто вы опечалены этим, — заметил ей врач шутливо.
— Ах, что вы! — запротестовала дама. — Но я так измучилась! Эта неизвестность… Скажите, он может поправиться? — И она вдруг заплакала.
— Нет! — строго ответил врач, у которого уже с полгода тоже были нелады с желудком и он сам опасался рака. — Вас я не буду обманывать — вы, молодая и красивая женщина, сможете перенести утрату. От рака, сударыня, не поправляются. Перерыв в страданиях, дня на два, на три, конечно, может быть, но он — иллюзия. Ведь больной продолжает худеть?
— Нет! — уж не скрывая своего отчаяния, прорыдала Мурочка. — Эти… мои слезы… всё нервы, доктор!.. Я ведь ночей не досыпаю, понимаете?
— Я всё отлично понимаю! — значительно ответил эскулап, капая даме валериановку и думая о своей собственной супруге, которая тоже была значительно моложе его.
— Я всё это прекрасно понимаю. Безнадежный больной — это уже тягость даже для самых близких… А вы, сударыня, я вижу, — и он значительным взглядом указал ей на ее пополневший стан. — Значит, да?
— Да, да!.. И это еще! Вы понимаете состояние моей души?
— Я всё прекрасно понимаю, — доктор не был дураком, а слухи о связи мадам Телятниковой с Тезеименитовым дошли уже и до его ушей. — Знаете что, — продолжал он, думая в то же время и о том, что, пожалуй, и ему теперь надо в оба приглядывать за своей молодящейся половиной и пореже оставлять ее с глазу на глаз с коллегой Цукаловым. — Знаете, что я вам скажу, чтобы устранить все сомнения, давайте-ка сделаем вашему Ива ну Никаноровичу анализ желудочного сока. Хоть больному мучительно, когда у него берут желудочный сок, зато наличие и или отсутствие в последнем молочной кислоты сразу позволит всё установить точнейше.
— Я уговорю мужа, я ему велю…
— Да, да, вот именно, уговорите. Тогда всё выясним окончательно. Так сказать, или пан, или пропал.
— Я же не о себе, доктор. Что вы! Я так рада буду, если у него не рак.
— Ну, разве я этого не понимаю! — и доктор отпустил посетительницу и, пряча в карман полученную от нее пятерку, проводил ее до дверей кабинета.
«Сегодня, — думал он, — расскажу об этой Телятниковой моей Софье Петровне — пусть знает, какие подлые бабы случаются среди жен интеллигентных русских людей. Это ей будет вроде предупреждения, на всякий случай — чтобы совесть заговорила».
А дня через четыре Мурочка, обнимая только что явившегося к завтраку Тезеименитова, говорила ему с отчаянием:
— Ты знаешь что, Вася? Колыванов ошибся. Исследование желудочного сока показало, что у Ивана Никаноровича рака желудка нет.
— Я очень рад, — ответил шахматист, погружая томный взор в огорченные глаза молодой женщины. — Я очень рад, — повторил он, легонько освобождаясь от ее объятия. — Что у тебя, ангел мой, сегодня на завтрак? Я так проголодался.
— Жареная утка и кофе.
— Отлично! Утку я люблю. — Тезеименитов погладил Мурочку по щечке. — И знаешь что еще, детеныш мой. Я заметил, что Иван Никанорович стал поправляться с того самого дня, когда при моей помощи он получил Коперника вместо своего Пачиоли. Это, я думаю, — действие радости.
— Но доктор говорит…
— Доктора всегда говорят — они за это деньги получают. Это — действие радости удовлетворения. Это бывает.
— Что же делать, королевич мой?
Необходима неприятность: придется Ивана Никаноровича огорчить, если ты хочешь, чтобы… Ну, как тебе сказать? Чтобы он не мучился напрасно.
— Ты думаешь? — тихо спросила Мурочка. — Но… как?
— Видишь ли, что получается, — не обращая внимания на ее вопрос, продолжал Тезеименитов. — Портрет-то, оказывается, не принадлежит «Факелам». Года два тому назад один господин дал его в магазин для окантовки. Но ему вдруг срочно пришлось уехать из города. Теперь он вернулся. Он рвет и мечет, он требует назад портрет, и «Факелам» ничего иного не оставалось, как рассказать о том, что портрет у твоего мужа. И этот господин, то есть хозяин портрета, на днях явится к вам. Что ты на это скажешь, мой тихий ангел?
— Но… ты любишь меня? — и почти яростными от страсти глазами Мурочка взглянула в лицо милого ей человека. — Ты не бросишь меня, ты… мой, мой?
— Дурочка, она еще спрашивает!
— Тогда… пусть он приходит. Но только… пусть без меня! Я, знаешь, не могу. Я представляю себе его отчаяние, я не выдержу этого. Ведь все-таки Иван Никанорович…
Знаю, знаю, мой ангел, уже слышал! Твой Иван Никанорович идеальный человек, который за восемь лет не сказал тебе ни одного грубого слова. — И Тезеименитов нахмурился, изображая ревность.
— Он ревнует! — радостно вскрикнула Мурочка и бросилась к шахматисту.
Она была счастлива.
* * *
В один из ближайших вечеров Мурочка, пообедав, заторопилась с Тезеименитовым в кино. Иван Никанорович остался один. Как обычно, он ушел в свой кабинетик и там углубился в работу. Поработав всласть, он решил отдохнуть и перешел в гостиную.
Включив электричество, он уселся в кресло напротив дивана, над которым висел добытый им портрет основателя бухгалтерии.
Покуривая, любуясь суровым лицом монаха-ученого, Иван Никанорович раздумывал о том, о сем.
«Хорошо бы, — думал он, — поехать в Италию, в Болонью, где жил, работал и умер Лука Пачиоли, где под сводами старинной церкви сохраняются его кости под мраморным надгробием. Поехать бы и отслужить над могилой учителя заупокойную мессу. А потом посвятить остаток дней своих сбору материалов о жизни этого гения и написать бы книгу такую, как имеющиеся жизнеописания других великих людей. И назвать эту книгу так: „Жизнь и труды великого Луки Пачиоли, основателя двойной итальянской бухгалтерии“. Вот ради этого стоит жить!»
«Деньги есть, — думал он дальше. — Хоть немного, но есть. Оставил бы сколько нужно Мурочке, а сам уехал бы. У нее друг есть хороший, этот самый Тезеименитов, — он бы уж позаботился о том, чтобы Мурочку не обижали тут без него. Кажется, они любят друг друга, и это очень хорошо. Почему бы им и не любить друг друга? Ведь оба они много моложе его, Телятникова. К тому же, он, кажется, болен, но уж вовсе не так страшно как думает заботливая Мурочка. Собственно, ему даже кажется, что он уже совсем здоров. Вот и тошнить перестало, и спит он хорошо, и полнеть начал. И какой-то молочной кислоты, так расстраивавшей Мурочку, в желудочном соке нет… Эх, поехать бы в Италию, к гробнице Луки!..»
Тут в передней раздался энергичный звонок, и бой Вася, маньчжур атлетического сложения, шлепая туфлями, пробежал по коридору отворять дверь. Затем Иван Никанорович услышал два голоса — один был Васин, а другой чужой, неприятно-громкий, повелительный.
И не успел Иван Никанорович подняться, чтобы выйти и узнать, в чем дело, как в гостиную решительно вошел господин средних лет в высоких сапогах и бекеше. На голове его была папаха, и он не снял ее. Он не снял головного убора и не поклонился Телятникову. Над верхней губой его топорщились в разные стороны великолепные белокурые усы; глаза были светлые, выпученные.
Увидя портрет Луки Пачиоли, незнакомец хлопнул себя по бедрам.
НЕЗНАКОМЕЦ. Наконец-то! Так вот он где? Так вот куда его похитили! (Телятникову.) Вы будете за это отвечать по закону, милостивый государь! Вы лишили меня последней моей радости! Вы…
ТЕЛЯТНИКОВ. Позвольте, я ничего не понимаю. Кто вы такой и что вам надо?
НЕЗНАКОМЕЦ. Скажите! Он ничего не понимает, но он уже бледен, как полотно. Вы — похититель этой моей гравюры. Это — мягко выражаясь. Вы пришли в магазин «Факелы», рылись там на полках и утащили принадлежащий мне портрет Фомы Торичелли!
ТЕЛЯТНИКОВ. Но как вы смеете! Это ложь! Я не позволю!..
Я купил эту гравюру в магазине «Факелы». И это вовсе не портрет Торичелли, это портрет основателя итальянской бухгалтерии Луки Пачиоли.
НЕЗНАКОМЕЦ. Ну да!.. Я и говорю: Луки Пачиноли. Это друг моего деда, гвардии капитана Мутузова. Вы, мягко выражаясь вор! Что? Нечего, нечего хвататься руками за сердце. Сейчас же снимайте картину! Немедленно!
ТЕЛЯТНИКОВ. Но, но… я жаловаться буду!
НЕЗНАКОМЕЦ. Жаловаться? Хе-хе!.. Я вам пожалуюсь! Вы знаете, с кем имеете дело? Не угодно ли! (Вытаскивает из кармана какую-то бумажонку и размахивает ею перед носом Ивана Никаноровича.) Что? А? В два счета, в два счета! (Отпихивает Телятникова, лезет на диван, чтобы снять картину. Телятников падает в кресло, он почти в обмороке.)
ТЕЛЯТНИКОВ. Пощадите!..
БОЙ ВАСИЛИЙ (всё время стоявший в открытых дверях в переднюю, бросаясь к Незнакомцу и стаскивая его с дивана). Ваша цу, ваша Йорка игоян Тезминитов. Ваша не могу карабчи! Капитан хороший люди есть!
НЕЗНАКОМЕЦ (обороняясь). Цу, ты, морда! Вон! (Падает, сшибленный с ног Василием.) Ах ты вот как? Ну, ну, я пошутил! Я сейчас уйду!
ВАСИЛИЙ (бьет Незнакомца по лицу). Нетуля уйду, полица ходи. Моя ваша знай. Ваша машинка есть!
НЕЗНАКОМЕЦ (Телятникову, который несколько пришел в себя). На ваших глазах бой бьет русского человека, и вы молчите! Я апеллирую к вашему русскому национальному сознанию. (Василию.) Стой, стой, не крути руку. Я ухожу.
Мурочка своим ключом отворяет входную дверь и бежит через переднюю в гостиную. За нею тихонько входит Тезеименитов.
НЕЗНАКОМЕЦ (Тезеименитову). Меня бьют, помогите! Вы ничего мне не сказали про их боя. С вас еще десять рублей. Никак не меньше!
VI

Сейчас мы подошли к самому напряженному моменту этой Телятниковской истории. Тут от автора требуется…
Впрочем, от автора в данном случае ровно ничего не требуется, ибо он ничего не сочиняет, т. е. не выдумывает: он лишь вполне точно, ничего от себя не привнося, живописует истинные события в их последовательном течении. Другими словами, рассказ о портрете Луки Пачиоли и о происшествиях вокруг него — не писательская вольная фантазия, а не так уж удаленная от нас городская быль.
Излагая события, мы уже два раза отступали от повествовательной формы, от стиля рассказа, применяя форму драматическую. Изменим мы повествовательному стилю и в третий раз — отступим в чисто прозаическое рассуждение о сущности человеческих трагедий.
Тут, конечно, следует вспомнить о роке и о герое, который вступает с роком в борьбу. Это с одной стороны. С другой же, не находят ли дорогие читатели, что в истории Телятникова создается какая-то трагическая ситуация? В ней действуют какие-то могущественные силы; и точки приложения их, т. е. люди как ни топорщатся, ни пыжатся, но, в конце концов, все-таки исполняют их веления.
Рок (если уж выражаться как древние греки) разрушает чистые мечты Ивана Никаноровича, являясь в гостиную в виде усатого Неизвестного; но в то же время и тонко задуманный план Тезеименитова рок рассеивает руками здоровенного боя Василия. Видимо, древний рок измельчал и расщепился на отдельные крупинчатые рокики (или, если угодно, рочики), и эти дробненькие судьбочки только путают мещанскую жизнь, не доводя ее до подлинной катастрофы.
Так, конечно, оно и есть. Ведь героя-то в телятниковской истории никак не найти!
Ведь не Иван же Никанорович герой? Нет, он уж слишком глуповат для такой роли. К тому же, обязанность героя погибнуть в борьбе; Телятников же, как покажет дальнейшее, наоборот, процветет и успокоится.
Василий Константинович Тезеименитов? Но он способен только к нарушению уголовных законов, он — клоп. Клопов же не уничтожает даже землетрясение! Они выживают под развалинами городов и государств, чтобы затем наводнить кровати грядущих поколений. Мурочка? Боже мой, сколько жен желает смерти надоевшим мужьям, и сколько мужей вздыхают облегченно, провожая на кладбище останки своих благоверных!
А стало быть, трагическая ситуация телятниковской истории кроется не в сердцах и душах отдельных ее персонажей, а в самой пакостности жизни, которую им навязала судьба. Судьба… и вот мы опять добираемся до рока. Стало быть, телятниковская история — трагедия, хоть и не совсем греческая, а скорее специфически мещанская.
А может быть, и ничего подобного.
— Какая же тут трагедия? — захохочут многочисленные знакомые Ивана Никаноровича, прочитав эти строки и узнав в них своего знакомого. — Помилуйте! Ведь Телятников-то выздоровел, растолстел, и чудесный сын у него восьми лет… И дом себе недавно Телятников купил… Трагедия!.. Подавай Боже каждому побольше таких трагедий. А если что насчет его Мурочки, так с кем этого не случается? Не всякое лыко в строку!
И кто скажет, что они не правы?
Да, да, конечно!.. Тем более, что и Тезеименитов очень скоро исчез из поля зрения ученого бухгалтера.
Потеряв надежду на безвременную кончину Ивана Никаноровича и, следовательно, на завладение его гардеробом и скромными сбережениями, Тезеименитов, трезво рассудив, решил, что продолжать разыгрывать эту слишком затянувшуюся скучную партию уже не имеет смысла и лучше ее грациозно проиграть. Тем более что на его горизонте замаячила некая вдовушка с капиталом и домом.
Свой уход шахматист провел не без грации.
— Знаешь что, мой ребеночек? — сказал он однажды Мурочке. — Я не хочу, чтобы мой сын носил это глупое имя — Лука. Оно какое-то хамское.
Мурочка в душе была вполне согласна со своим возлюбленным. Имя Лука ей тоже не нравилось. Но ведь ее первенцем мог быть совсем не мальчик, а девочка, и она сказала об этом Тезеименитову. Шахматист не нашел возражений. Но затем Мария Ивановна сделала тактическую ошибку. Она сказала:
— Но если будет мальчик, муж никак не согласится на другое имя. Я это теперь знаю. И надо будет ему уступить.
Тезеименитов тотчас же воспользовался этим неверным ходом своей возлюбленной.
— А какое мне дело до какого-то Ивана Никаноровича, если отец — я? — резко сказал он.
— Но… он мой муж!
— Мне всё это надоело! — отрезал Тезеименитов, поднимаясь с дивана (они сидели в гостиной). — Муж, сын. Лука… какой-то бой, который почти рычит на меня.
Я от всего этого даже хуже стал играть. Как хочешь!..
— Погоди… что ты?.. Постой! — испуганно пролепетала Мария Ивановна. — Что «как хочешь?» Почему ты уходишь?
— Почему? Ты не понимаешь? Хорошо, я объясню. Всё это действует мне на нервы: муж — не муж, сын — не сын, рак — не рак. А я хожу в драном пальто и черт знает как питаюсь! Нет, довольно быть альтруистом, жить только для других… Прощай!
И он ушел, не взирая на Мурочкины рыдания. И больше не возвращался. Ушел благородным человеком.
И всё скоро вошло в норму.
В настоящее время Луке Телятникову уже восемь лет — это прекрасный, здоровый, краснощекий мальчуган, в котором растолстевший Иван Никанорович подлинно души не чает. Мальчишка уже научился щелкать на счетах, и отец называет его вундеркиндом в области бухгалтерии. И Коперник из золоченой рамы ласково смотрит на бухгалтерово потомство. Мурочка же пристрастилась к литературе и ходит теперь в кружок имени Фета, где изучает стихосложение. В их доме недавно появилось новое лицо: беллетрист Сиволдаев, очень знаменитый человек.
Публикация подготовлена автором телеграм-канала «Письма из Владивостока» при поддержке редактора рубрики «На чужбине» Климента Таралевича (канал CHUZHBINA).
Читайте также, как сын русского дьяка стал англиканским священником «Никифор Алфери. Первый русский эмигрант»