Бардовские баллады — эндемичная России поэтически-музыкальная отрасль, с которой многие начинают отсчёт истории русского рока. На деле связь авторской песни с её рок-наследниками, пожалуй, большого значения не имеет: творчество поэтов-песенников — отдельная экосистема, которая спокойно существовала и без вмешательства электрических инструментов.
К настоящему времени интерес к песням старых бардов почти угас — во многом именно потому, что последние, в отличие от рокеров, не особо гнались за славой и никогда не стремились купаться в ослепляющем свете софитов. Несмотря на культовый статус, скажем, Высоцкого, образ воющего под акустику ловца слов устарел в тот момент, как отечественная богема осознала простую мысль: поэт в ХХ веке не только гражданин, но и рок-звезда.
Вот только барды никуда не делись, более того, авторская песня продолжила развиваться в самых разных направлениях. Едва ли раньше можно было представить барда-постмодерниста, а сегодня — почему бы и нет.
Однако из-за представления о том, что рокеры в СССР стали прямыми продолжателями бардов, возникла путаница: в массовом сознании укоренилась идея о направленной эволюции от последних к первым. Мол, одни пришли на смену другим. Это неизбежно рождает стереотип, в рамках которого авторская песня осталась далеко в прошлом, вынужденная пылиться в чертогах исторической памяти где-то на одной полке с колбасой по 2,20. Музыкальный публицист Даниил Киберев верно сформулировал клише, возникшее вокруг бардов:
«…сперва вы по инерции представите лубочную лужайку в средней полосе России, где небритые советские барды в свитерах с оленями сидят и поют, медлительно зажимая два-три простеньких аккорда, свои заунывные прекраснодушные баллады. Как ни популяризируют на постсоветском пространстве термин „сингер-сонграйтер“ в противовес пахнущему тлеющим костром „автору-исполнителю“, русский человек упорно не хочет отказаться от прежнего восприятия авторской песни как блаженного КСП (Клуб самодеятельной песни)…
Меж тем жанр музыки „один человек под акустическую гитару“, который, кажется, начиная с середины ХХ века можно уже смело и в полный голос называть русским национальным, поскольку из такого формата вышли… и городской романс, и эмигрантская песня, и пресловутый русский рок, с 80‑х годов получил новый импульс и существенно видоизменился, развившись как бы параллельно с музыкальным мейнстримом».
В 2010‑х ситуация стала ещё более мутной: какое-то время назад зародился термин «пост-бард», употребляемый в основном молодыми слушателями и музыкантами. Естественно, понятие стало слишком широким и зонтичным. Пост-бардами уже успели окрестить целую плеяду никак не связанных друг с другом исполнителей, напоминающих старых бардов исключительно внешне, по имиджу — разве что с ремаркой «для зумеров».
Едва ли авторы нейминга отдают себе отчёт в том, имеют ли обладатели новомодного ярлычка хоть что-то общее с музыкальной эстетикой (и, пожалуй, этикой) своих жанровых предков. Хрестоматийный пример — откровенно глупое сравнение Гречки разом и с Дягилевой, и с Земфирой.
Термин «пост-бард» несостоятелен хотя бы по той причине, что бардовский континуум никогда не прерывался, хотя и тянется с допотопных времён. Безусловно, вес слов и поступков глашатаев с акустической гитарой по прошествии лет потерял изрядное количество килограмм. Авторская песня перестала быть всеохватывающим общественным феноменом, но это отнюдь не значит, что барды исчезли с концами. Ниже собраны примеры выдающихся мастеров, которые объективно заслуживают вашего внимания.
Герой негероической эпохи: Веня Д‘ркин
Старое клише «культовый в узких кругах» хорошо подходит для Вени, он же Александр Литвинов. Его творчество пришлось на то время, когда ещё сохранялась лояльная бардам аудитория (конец 80‑х — 90‑е), только общество уже затаило дыхание в ожидании изменений, в том числе культурного плана. Веня тоже возвещал о новых временах, разве что не о тех, которых склонны были ждать остальные. Как бы то ни было, но ветвь в будущее авторской песни от Д‘ркина тянется прочнее и толще, нежели линия от предшественников Литвинова к нему самому.
В самом широком смысле роль Вени в развитии бардовской песни заключалась в расширении границ: в кондовую гитарную форму он помещал тематики, обыкновенно нехарактерные для неё. Это уже не чистосердечный романтик, но и и не отчаявшийся крикун: Д‘ркин интонировал хитрее прочих, запросто переключая регистры с ироничной пародии на публичное вскрытие ран. Литвинов — подлинный трикстер от мира авторской песни.
Если верить в миф, что барды стали прародителями рокеров, то последующие симбиозы этих жанров можно обобщённо разделить на рок-бард и бард-рок. Первый представлен рафинированными интеллигентами, предпочитающими ритму и сексуальности поэтические опусы (например, БГ). Второй — поэтами-песенниками, перековавшими акустическую гитару в инструмент экзорциста (как СашБаш). Д‘ркин же породил новую, совершенно уникальную ветвь альтернативного барда в эпоху, когда кризис поглотил даже перестроечный рок.

Выглядел он тоже инаково. Если Башлачёв походил на бездомного пса, которому не помогла ни одна прививка от бешенства, то Литвинова при должном усердии можно представить даже в лощёной нью-вейв группе — он явно был больше склонен к перформативности, нежели к разрывной аутентичности. Его голос говорит от лица рассказчика или даже режиссёра, а не героя.
Чем ещё выделялся Литвинов, так это редким для барда умением найти идеальный баланс между лирикой и музыкой: иной раз сложно сказать, что было первичным в его творчестве. Гитарный бой и пародийное интонирование соседствуют друг с другом, как два лёгких. Едва ли нужно уточнять, что эти органы жизненно необходимы.
Подробнее о творчестве Вени Д‘ркина читайте в очерке Александры Скубы.
Смутный садизм: Михаил Елизаров
До Елизарова было сложно представить, что писатель может взять в руки гитару и начать исполнять матерные песни. Но совсем уж невозможно было помыслить, что писатель, взявший в руки балалайку, способен переквалифицироваться в панка.

Причём в панка своего времени: в его арсенале хранятся всевозможные триггеры (героям песен Елизарова розданы самые уничижительные, максимально нетолерантные характеристики), а отношение автора к происходящему в песнях остаётся предельно невнятным. Сегодня это принято называть «постиронией», что в целом верно. Главным апологетом такого приёма считается Слава КПСС.
Вот только если от треков Славы остаётся ощущение неловкой шутки, то от некоторых песен Елизарова становится страшно — настолько размыта граница между иронией и серьёзностью.
Хороший пример — «Сталинский костюм». Эту балладу можно воспринять и как едкую насмешку над реваншистским идеалом, но одновременно и как оду ему. В этом кроется почти садистская натура творчества Елизарова: слушатель остаётся один на один с личной интерпретацией, почти без возможности понять, чью сторону занимает автор (и занимает ли вообще). Эти песни буквально издеваются над слушателем своей неоднозначностью: какую бы интерпретацию вы ни выбрали, какой бы идеологии ни последовали, Елизаров всегда ускользает от истины в последней инстанции. А невозможность расставить все точки над «и», как известно, изрядно бесит.
Неопределённостью характеризуется не только песенное творчество автора, но и его публичная фигура. Елизаров может спокойно прийти в программу Прилепина и выдать там странноватую политическую критику. Впрочем, ставить знак равенства между личностью автора и героями его песен рискованно. Когда я задал Михаилу вопрос о его отношении к Прилепину, он ответил сколь просто, столь и витиевато: «Совсем не обязательно всерьёз прислушиваться к тому, что говорит Захар».
Камю на обочине: Олег Медведев
Олег Медведев родился в 1966 году, а исполнять музыку начал в 1990‑х. Из-за этого темпорального лага сложно определить, с какой категорией поэтов-песенников его творчество стыкуется лучше всего. Играть он стал в тот период, когда бардовская песня столкнулась с кризисом своего общественного значения. Образ музыканта (если вообще правомерно говорить об этом в отношении бардов) был явно навеян интеллигентством, что в девяностые было давно не в чести. А поэтически его песни вообще не укладываются в чёткие границы и временные рамки.
По профессии Олег Медведев инженер-строитель, но его лирического героя так и хочется назвать инженером-сторителлером: он представляет собой синтез физиков и лириков, к которым добавился фронт ролевиков. Автор выстраивает собственную вселенную, в которой даже электрод теряет техническое измерение, но обретает поэтическое.
Возможно, именно поэтому самой ближайшей сферой для Медведева кажется среда любителей фэнтези — не только из-за того, что он частый гость международных конвентов фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» в Казани и «РосКон» в Москве, но и потому, что вся его поэтика отсылает к приключенческим мирам. Иной раз реальный населённый пункт обретает в устах Медведева более размытые контуры, нежели выдуманный: если Изумрудный город бард проговаривает, будто зачитывая отметку на карте, то в песне «Отпуск» лишь угадываются достоверные очертания Владивостока.

Медведев мастерски обращается не только со словом, но и с образами: они одновременно напоминают озарения Артюра Рембо, фэнтезийно-сюрреалистичный лор видеоигр и экзистенциальное бытоописание: почти по Камю, но в антураже мира Стругацких. И лучший тому пример — песня «Солнце»: настоящий гимн, в кои-то веки в русской музыке утверждающий экзистенциализм как гуманизм, а не синоним депрессии.
Перешагни обратно: Сергей Иноземцев
Творчество Сергея Иноземцева — убедительный пример несостоятельности термина «пост-бард». Без знания контекста можно представить, что автор песен «поле», «буревестник» и «сезон» — это очередной теневой персонаж поздних 80‑х или 90‑х. Его лирический герой разделяет мироощущение, рифмующееся с поэтическими образами Летова, Янки, Д‘ркина и частично Александра Васильева. Однако сейчас Иноземцеву нет и 30 лет, а его дискографии — от силы два года.

Под именем «СС» Иноземцев выпустил всего один альбом (впрочем, нет уверенности, что доступные семь треков представлены именно в качестве альбома). И от начала до конца это песни отнюдь не невинности, но опыта. Хороший поэт обладает умением спеть о личном как об общем, и стихи Иноземцева прекрасное тому подтверждение. В «буревестнике» при желании можно услышать эхо революции, в «пороге» — ощутить реверсивное суеверие, а в «сезоне» чувствуется практически Death in June на русском языке, только на порядок живее.
Но главное, что Иноземцев — один из немногих бардов, которого можно воспринимать, вообще не вслушиваясь в слова. Он обладает незаурядным тембром и интонацией, что особенно раскрывается в песне «поле». Тем интереснее, что убедительные и самобытные образы всё равно отпечатываются в голове если не буквально, то уж точно на уровне эмоционального отклика.
Поэт ресентимента: Александр Непомнящий
Непомнящий если не единственный, то один из немногих исполнителей с богословским образованием в русской музыке. Хоть он не прошёл до конца обучение в Свято-Тихоновском православном гуманитарном институте, однако впитал оттуда многое.
Как никакой другой бард, Непомнящий выступал апологетом подлинной христианской веры. Он всячески отвергал сравнения концертной истерии с мессой, сетовал на убитые идеалы и чувствовал мир как место, скатывающееся в тартарары. Неудивительно, что при таком эсхатологическом восприятии Непомнящий был носителем консервативных идеалов — не только идеологически, но и эстетически.
Симптоматично, что его обращение к русской культуре отличается детальным погружением, тогда как большая часть референсов к зарубежным феноменам начинается и заканчивается шестидесятыми. Координаты заданы довольно простые: как ещё оборачиваться на заграницу русскому мужику, кроме как на источник ресентимента?
Характерно, что комментарии о Непомнящем страдают той же риторикой зависти к западным феноменам. Вот что говорил лично знавший Александра публицист левого толка Александр Тарасов:
«На одной акустической гитаре он лабает такие блюзы („Песня Юных Дружинников“), что куда там Би Би Кингу! Непомнящий — единственный из наших рокеров, кто исполняет подлинный, неупрощённый реггей — на стихи на русском языке».

Надо ли говорить, что «Песня Юных Дружинников» представляет из себя довольно стандартный блюз, а замечание про регги и вовсе не выдерживает никакой критики в пик творческого расцвета Олди?
Непомнящий — один из тех людей, что слишком серьёзно относятся и к себе, и к миру. Пока большая часть человечества старается просто обойти окружающее безумие стороной, адепты ресентимента готовы записаться в партизанский отряд. Однако было бы по меньшей мере странно, если бы в среде бардов не нашёлся радикальный носитель консервативных взглядов.
Cлишком долго здесь: Александр Дёмин
Александр Дёмин — важная и почти неизвестная нынешним слушателям фигура из Владивостока. Его называли то местным Хью Оденом (благодаря общему для обоих интересу к блюзу), то отечественным Бобом Диланом. Второе сравнение уже более меткое: близким другом Дёмина был Майк Науменко, с которым они записывали песни и вообще звучали как два брата с разных концов страны. Баллады Александра были частью мифологии города — «закрытого», как сам Дёмин его и назвал.
Увы, в 2002 году Дёмин умер при невыясненных обстоятельствах. Спустя много лет музыканты, принадлежащие к нескольким поколениям, объединились и решили записать трибьют Дёмину, что на короткое время вновь привлекло внимания к поэту.
В буквальном смысле слова Дёмин никаким бардом не был. Чаще всего акустике он предпочитал электрогитару, да и повлиял на последующих приморских рокеров гораздо больше, чем на поэтов-песенников. Однако вписать его в летопись рок-бардов нужно и важно. Владивосток впервые отметился на карте истории отечественной музыки группой «Мумий Тролль», но до этого он был изолирован от глобальных культурных процессов — так что приморские авторы творили в значительной степени самобытно и автономно.
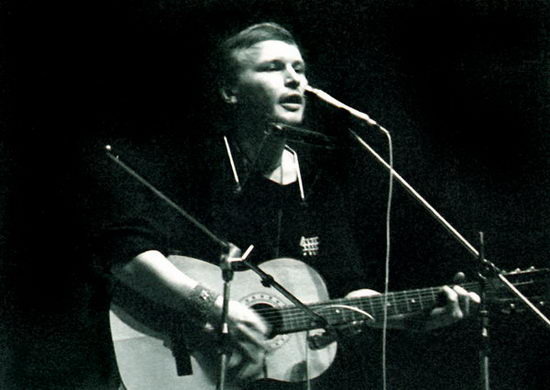
Дёмин оказался своеобразной скрепой двух поколений, будучи одновременно другом Майка Науменко и одним из учителей, напарников и соперников Ильи Лагутенко. Для полноценной истории русской музыки Дёмин важен хотя бы в качестве незримого историей моста из одной эпохи в другую: что Науменко, что Лагутенко исполняли песни преимущественно на бытовом языке (увы, редкое качество в отечественном роке), как и Дёмин.
Поэтому участие последнего во владивостокской сцене, кажется, выходит за рамки локальности. Дёмин оказался не только музыкантом, не распробованным должным образом за пределами Приморья, но и поэтом, объединившим столь разные поколения, одно из которых больше тяготело к слову, а другое — к ритму.
Читайте также «„Hеприметной тропой“: ностальгия в русской музыке».











