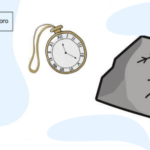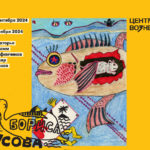За более чем 20 лет существования ой-панк-группа «Учитель труда» всё дальше уходит от типичных для скинхедов тем — работы на заводе, пива и развлечений по выходным. В творчестве «УТ» множество отсылок и цитат из литературы, кинематографа и истории. Героями песен московских ойстеров становились убийца президента Франции Павел Горгулов и член ГКЧП Борис Пуго, превратившийся в диджея.
На новой записи «Учитель труда» предлагает перенестись «в зимнюю сказку начала прошлого века», когда жизни ломал не панк-рок, а эпоха кардинальных перемен.
Специально для VATNIKSTAN вокалист группы Павел подробно рассказал о мини-альбоме «Начало неведомого века», концепции релиза и истоках каждой песни.

Релиз «Начало неведомого века», как видно по названию, посвящён относительно недавним событиям — примерно столетней давности. Дивное время. Тогда старый мир со своими устоями и нормами трещал по швам и ломался как скорлупа яйца, из которого вылупились многие атрибуты окружающей нас сейчас реальности. Спорт, мода, музыка, наркотики, общедоступная беспредметная живопись и крестьянская поэзия — всё, что сейчас кажется таким знакомым и обыденным, яростно прорастало тогда, в первую четверть XX века.
«Начало неведомого века» вытекло из EP «Горгулов». Хронология тут сместилась. «Горгулов» посвящён главным образом так называемому незамеченному поколению русских эмигрантов. Блестящих аутсайдеров, имеющих на счету такие бесспорные достижения, как передозировка «спидболом» до того, как это стало мейнстримом в Голливуде, и убийство в поэтических целях целого президента, пусть и Франции.
«Начало неведомого века» — нарастающий гул того самого взрыва, который вытряхнул этих совсем юных тогда героев из удобных диванов на Родине и забросил на Монмартр без средств к существованию.
Эти пять песен — просто лёгкая зарисовка, впечатления, возникшие от погружения в причудливые свидетельства великой эпохи. Благо материала хватает: есть и письменные свидетельства, и исторические исследования, и кино. Помимо непосредственно хроник и бесспорных классиков (Эйзенштейна, Вертова, Кулешова), в разгар работы на глаза попал и снятый позже альманах «Начало неведомого века».
В нём больше всего понравилась снятая Ларисой Шепитько экранизация рассказа Платонова «Родина электричества». В начале там эталонная сцена с крестным ходом и диалог со старухой:
«— Бабушка, зачем вы ходите, молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.
Старушка согласилась:
— Да и наверно, что нету, — правда твоя!
— А на что вы тогда креститесь? — спросил я её далее.— Да и крестимся зря! Я уж обо всём молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу-то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце-то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: Бог — беда наша…»
Тут я сразу почувствовал нерв, который хотел сам передать. Так что название должно отсылать в первую очередь к кино, а не к мемуарам Константина Паустовского, которые тоже по-своему весьма занимательны. Однако, думаю, ёмкое название — их самая выигрышная часть.
Обложка — результат совместной работы режиссёра Сергея Эйзенштейна и современного художника Линзы. Мы обратились к преимущественно утраченному фильму Сергея Михайловича «Бежин луг». Единственная копия картины погибла во время войны. По сохранившимся срезкам (обрезки плёнки) уже в 1968 году Наум Клейман и Сергей Юткевич смонтировали фотофильм. В свою очередь, мы изъяли кадр из картины и, добавив киберпанка, преломили через призму сегодняшнего дня изначально заложенную в фильме тему конфликта старого и нового, порабощения и разрушения.

Как известно, Эйзенштейн решил показать гремевшую тогда историю Павлика Морозова, вписав её в мистическое пространство рассказа Ивана Тургенева «Бежин луг».
Деятели искусства, которым посчастливилось посмотреть полную версию, оценили работу как необычайно смелое и сильное высказывание. Однако комиссию фильм так и не прошёл: авторов обвинили «в мистицизме, в библейской форме, в „чертах извечности“, „обречённости“, „святости“». Нам эти черты как раз пришлись по сердцу. Прекрасный калейдоскоп ярких кадров, вечная Россия Тургенева, новый быт, разбойники, комсомольцы, дети, мрачные старухи, разграбленные церкви и вековые деревья, — вечный танец Аримана и Ормузда.
«Эпиграф»
Стихи Николая Тихонова, впервые опубликованные в сборнике «Орда», изданного содружеством «Островитяне», куда также входил, в частности, Константин Вагинов. Музыку сочинил и записал Дмитрий Князев, за что ему большое спасибо.
Сейчас Николай Тихонов главным образом известен российским исследователям эффекта Манделы как истинный автор известных строк о гвоздях, закрепившихся в массовом сознании за Маяковским.
Между тем, как справедливо заметил Иван Соколов-Микитов в ответ на рецензию Эренбурга, «свинство печатать такие порожние рецензии о русском поэте Тихонове: Тихонов стоит тысячи Пастернаков и Мандельштамов».
Кстати, и биография Тихонова была значительно ярче. В 1915 году был призван в армию и служил гусаром «на аренах бойни мировой». В 1918 году ушёл добровольцем в Красную армию, в 1922‑м демобилизован. В том же году издал книгу стихов «Орда» якобы на выручку от продажи кавалерийского седла и ещё какого-то скарба, оставшегося от службы.
Комментировать сами стихи смысла не вижу. Их как раз взяли, потому что всё очень понятно — интро должно сразу выщёлкивать в реальность художественного пространства аудиопроизведения.
«Чёрная судьба отцов»
Песня — общее впечатление от эпохи, точнее разлома эпох. Чтобы ощутить этот пульс, понять, что двигало людьми, столь яростно гнавших время вперёд, я обратился к литературе, которая от них осталась.
Погружаясь в прочно забытые хрестоматии и издания отдельных авторов, я испытывал трепет, сходный с тем, что ощущал Ганс Покора (легендарный коллекционер винила, автор серии книг 1001 Record Collector Dreams), когда формировал свою коллекцию, скупая за бесценок раритеты. В литературе, как и в музыке, забытые аутсайдеры часто оказываются гораздо интересней мейнстрима. Причём как в творчестве, так и в жизни.
Речь идёт в первую очередь о пролетарской поэзии, уверен — самого ницшеанского явления в литературе. Большинство авторов, несмотря на образование в пару классов, действительно были знакомы с идеями Ницше. Это хорошо видно в стихах, которые затем оптом вычеркнули из истории литературы, захватившие дискурс филистеры духа. И в личных биографиях, вполне сверхчеловеческих, — здесь каждый сделал себя сам, пройдя путь из нищеты и невежества к вершинам духа, с радостью преодолевая все невзгоды. Как раз отсутствие зазора между биографией и декларируемыми ценностями подкупает особо. Призывать бури лучше всего имея за плечами действительный опыт ссылок, каторги и войны.
Вот эту поэтику, коллективный опыт многолетнего прозябания во тьме и личный — преодоления судьбы, бунта и устремлённой к солнцу мечты — и хотелось передать. Получается, я по мере способностей перепел хор забытых авторов, от каждого из которых в память запала яркая строчка, удачный образ, общее настроение.
Также впечатления удалось визуализировать в подготовленном к музыке видеоролике — нарезке старых хроник. Там, кстати, тоже поэты мелькают.
«Новый быт»
Другая, более весёлая, можно сказать, балаганная сторона времени, мимо которой мы никак не могли пройти, — бесшабашный разгул. Веселье, перешагнувшее через все социальные нормы. Наркотики, хулиганство, половая распущенность, татуировки и так далее — всё как мы любим.
Эта сторона прекрасна разобрана и классиками криминологии типа Михаила Гернета, и современными учёными, и писателями. Всё это я с удовольствием изучил. Кстати, СССР, помимо прочего, первая страна в мире, где ввели заместительную терапию — наркозависимые граждане могли встать на учёт и получать кокаин в аптеках. Благословенные времена военного коммунизма.
Технически песня опирается в первую очередь на повесть Бориса Пильняка «Иван Москва», местами там практически буквально пересказываются пассажи книги. Благо автор смог крупными мазками передать и картины разложения тех лет, и зарю нового времени, в которое не могут до конца вписаться даже герои революции, несущие на себе родимые пятна проклятого старого мира. Эта его цитата уже стала дежурной для большинства статей, посвящённых наркомании и прочим социальным девиациям 1920‑х годов:
«…в притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка — или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных — собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться. В подвалах нищенства людьми командовала российская горькая под хлип гармоники. Бульвары и рынки командовались кокаином. Российский Восток нирванствовал опием и анашой, засаленными нарами эротических снов перед приходом милиции. На задворках этажей и рублёвого благополучия, ночами, мужчины в обществах „Чёрта в ступе“, или „Чёртовой дюжины“, членские взносы вносили — женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах — было одно и то же: люди расплёскивали человеческую — драгоценнейшую! — энергию, мозг, здоровье и волю — в тупиках российской горькой, анаши и кокаина ——
—— на третьих задворках, в Лефортове, расстрига-поп, в заброшенной церкви, ровно в полночь, служил чёрную мессу, — приход чиновных подонков истерически воздыхал под гнус попа, — поп отрезывал голову чёрному петуху на обнажённой груди женщины, которая лежала на алтаре».
«Николай»
Популярные в те годы частушки, положенные на современную музыку. Идея была просто найти песню, которую тогда реально пели; это максимально близкое, что нарыли. Была на рассмотрении ещё пара сборников частушек тех лет, но там возникли сомнения, что их правда пели — скорее, агитматериалы эсеров.
«Мы»
Венчает альбом песня на стихи Владимира Кириллова. План был структурно отзеркалить «Горгулова». Там есть песня на стихи Марка Талова, значит, и во второй части должен быть непосредственный голос поэта.
Эти написанные в 1917 году стихи лучше всего подошли на роль жирной заключительной черты. Вполне возможно, Кириллов придумал их, как большинство стихов тех лет, утром, по пути на заседание партийного комитета. Тогда он был секретарём партийной организации Московского вокзала, и сочинял большей частью на ходу, как признавался позднее.
Стихи в своё время наделали немало шума. Они написаны в ответ на заявления Луначарского об отставке, когда начали уничтожать культурные памятники. Собственно, громкое обещание в стихах во имя завтра сжечь Рафаэля, как раз не ново: Бакунин с подобными заявлениями выступал значительно раньше. Гораздо интересней тут созидательный порыв — «нашей планете найдём мы иной, ослепительный путь».
Классической для пролетарских поэтов тех лет образ не индивидуального героя, а сверхчеловеческой общности, легионов труда, образовавшей единое мистическое тело оглушительно гремит в заключительных строках:
Любим мы жизнь, её буйный восторг опьяняющий,
Грозной борьбою, страданьем наш дух закалён.
Всё — мы, во всём — мы, мы пламень и свет побеждающий,
Сами себе Божество, и Судья, и Закон.
Вообще, Владимир Кириллов заслуживает отдельной большой книги. Тем обидней, что сейчас о нём говорят только пренебрежительные строки его ближайших конкурентов. Поэтому воспользуюсь возможностью хоть немного напомнить о нём.
Есенин, назвал те самые строки о Рафаэле «громкими, но пустыми», попутно исказив цитату. А также брезгливо присовокупил, что «представители новой культуры и новой мысли особенным изяществом и изощрением в своих узорах не блещут».
Отношение Кириллова к пресловутому Рафаэлю и культуре будет понятно, если заглянуть в другое стихотворение — «Жрецам искусства». Там он рассказывает о себе и товарищах, чьими яслями стали нужда и горе, а мечтой — бунт:
И в неразрывно слитном хоре,
В размерном беге шестерён
Мы разгадали чудо-зори —
Сиянье солнечных времён.
И день кровавого восстанья,
Грозу великих мятежей,
Как деву в брачном одеяньи,
Мы ждали в сумраке ночей.
Эту новую поэзию не приняли как раз штатные поэты старого мира, который Кириллов с полным основанием ненавидел:
В покровах синетканной блузы,
В сияньи зоревых гвоздик
Суровый облик нашей музы
Вам непонятен был и дик.
За то, что огненные струны
Смутили лепет слёзных лир,
Вы дали нам названье — «гунны,
Пришедшие разрушить мир».
При этом противостояние тут идёт не в плоскости новые поэты — старая культура, а рабочие поэты против «жрецов искусства», современников, привыкших снимать сливки при старом режиме, занимающихся сугубо плетением словесного бисера, теми самыми бессмысленными словесными узорами.
Ночные филины, кукушки,
Не вы избранники богов,
Он с нами лучезарный Пушкин,
И Ломоносов, и Кольцов.
Также претендовавший на роль главного революционного поэта, Маяковский бросил пренебрежительно в автобиографии:
«Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова».
Тут или привычная полемика литературных школ и сословий, или желание подвинуть конкурента. Сравнительный анализ фигур Маяковского и Кириллова — антиподов почти во всём — крайне интересная тема, требующая отдельного обстоятельного разговора. Здесь же могу только посоветовать поразмышлять самостоятельно, насколько случайно обретается и приумножается слава.
И иметь в виду, что на самом деле Кириллов был совсем не прост, что бы ни говорили злые языки. В качестве примера приведу отрывок из его «Из дневника 18-го года», посвящённого ни много ни мало Клюеву:
Был вечер розов, город необычен
Тревожной радостью бушующих событий.
Июльским ветерком колеблемые тихо
Плескались пламенные флаги на местах,
Сочилась золотом, играла в хрусталях
Проспекта Невского роскошная аллея.
Я с другом шёл, олонецким поэтом,
Струилась пёстрыми излучинами речь,
Он говорил о Китеже воскресшем,
О красном боге бунта, о коммуне…
Я слушал странные, дремучие слова,
И гулко отдавались по асфальту
Его олонецкие, в сборках сапоги…
Но вот качнулась звонко тишина,
Расколотая музыкой оркестра,
Знакомый марш торжественно и бурно
Взметнулся стаей медных голосов.
Под парусами огненных знамён
В цветах и стали двигалась пехота,
За нею конница… Тяжёлый чок копыт,
И пушки в зелени, и легкие двуколки,
Алели ленты в чёлках лошадей,
Качались розы в шелковистых гривах,
В петлицах розы, розы на штыках,
И вечер веял розовые блёстки…
И друг сказал: «Багряное причастье —
Народ вкусил живую кровь Христа…»
Овеян сказкою, встревоженный мечтами,
Я для ответа не открыл уста…
Удивительна — и при этом типична для времени — биография поэта. Родился в бедной семье, рано остался без отца, только одну зиму ходил в школу. Рано начал работать подмастерьем, потом ушёл матросом, посетив ряд экзотических стран. Это описано в поэме Кириллова «О детстве, море и красном знамени».
Участвовал в протестах моряков. В 1906 году арестован за террористическую деятельность, тогда ему было всего 16 лет. По малолетству вместо каторги Кириллов получил три года ссылки, которые использовал для расширения литературного кругозора. После ссылки он на жизнь зарабатывал игрой на музыкальных инструментах по пивным, поступил в оркестр народных инструментов, с которым давал гастроли даже в Нью-Йорке. Мечтал стать композитором, но не смог закончить обучения, поэтому обратился к поэзии.
В 1914 году был призван на войну. Воевать не хотел, но в отличии от коллег по цеху, порицавших его за некрасивые стихи, не стал уклоняться, или не имел влиятельных покровителей, как тот же Есенин. На войне он вошёл в солдатский комитет полка и написал такие стихи:
Ни величания, ни славы…
Мечта поэта, будь чиста!
Перед лицом войны кровавой
Сомкну бессильные уста.
И в жуткий час, неотвратимый,
Сливаясь с тёмною толпой,
Под нож судьбы неумолимой
И я поникну головой.
Дальше — звание главного пролетарского поэта, «Кузница». Владимир Кириллов достиг такой популярности, что его стихи выходили на грампластинках. Однако в зените славы поэт выходит из партии, не приняв НЭП, и сразу всё теряет. Дальше, судя по стихам, был еще ряд любопытных перемещений.
Вот, например, интригующий отрывок из его замечательного позднего стихотворения «Чум»:
Вот — чум… Входи,
Нагнись пониже,
Рукой приподнимая мех олений…
Здесь жизнь проста,
И принимают просто,
Здесь слово гость
От слова — угощать.
В 1937 году поэта расстреляли, причину я пока не нашёл…
Читайте также «Ой! в России: пять главных групп отечественного ой-панка».