Независимая книжная торговля в России — явление уникальное. На огромной территории страны разбросано множество независимых магазинов и издательств, в которых трудятся энтузиасты. Бизнесмены такого типа ставят перед собой помимо коммерческих ещё и просветительские цели. VATNIKSTAN говорит о том, как рождалась, чем живёт и куда движется независимая книжная торговля России с непосредственными её участниками.
«Полка» — первый независимый книжный магазин в Нижнем Новгороде со слоганом «Читайте хорошие книги, жизнь сделает остальное». Здесь читателям предлагают обширный выбор нонфикшн-литературы, изданий по философии, а также могут помочь найти редкую книгу. В большом интервью для VATNIKSTAN основатель «Полки» Александр Карпюк рассказал о книжном бизнесе, жёстком подходе к ассортименту, разницей между делом и заработком и многом другом.
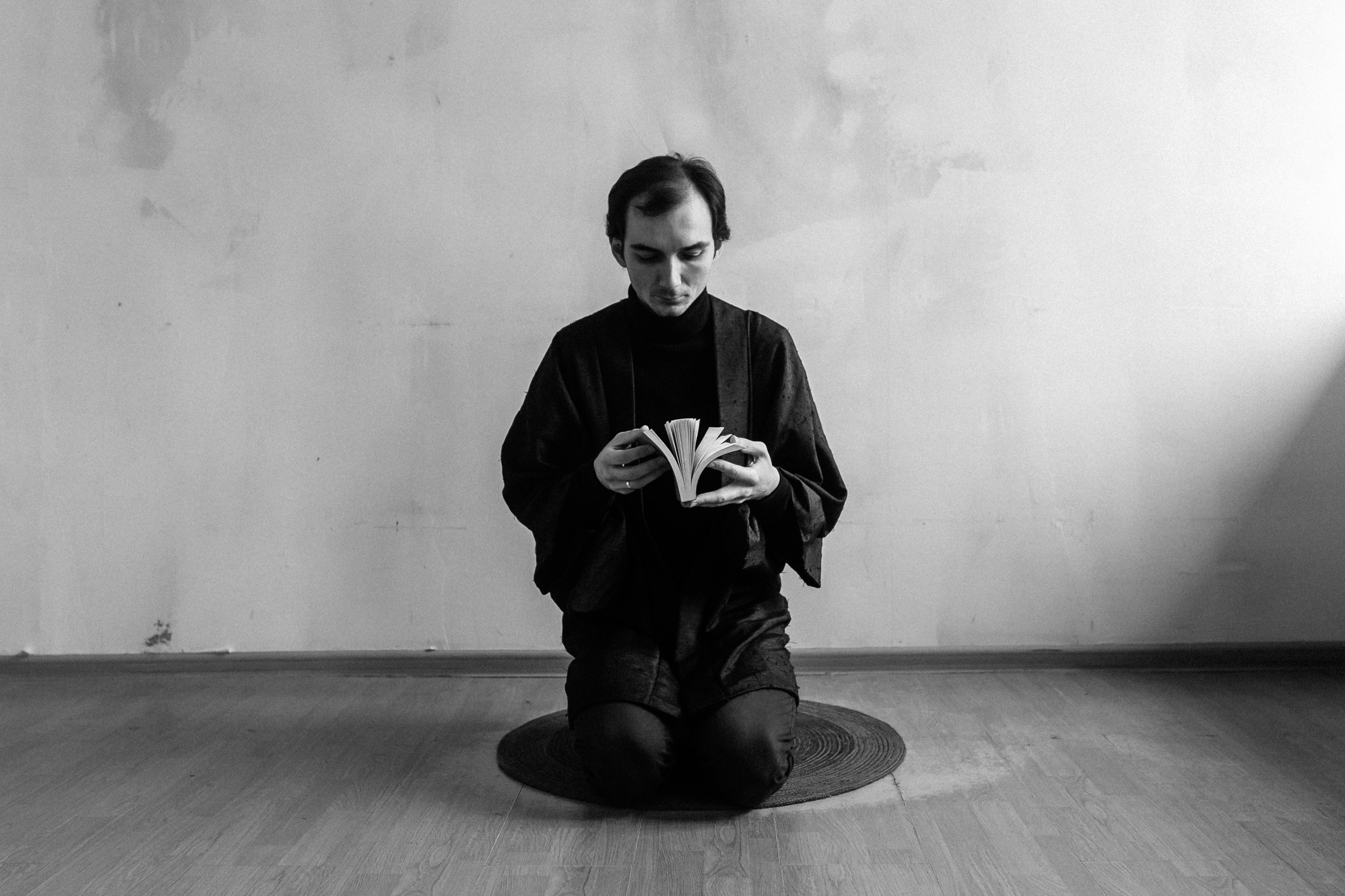
— Добрый день, Александр! Насколько я знаю, вы приехали в Нижний Новгород где-то в 2014 году, правильно?
— Да, всё верно.
— …и «Полка» — это история очень необычная. Книжный рынок в России, по большей части, поделён между крупными сетевыми гигантами. Такими, как «Лабиринт», «Читай-город». Онлайн-магазин «Ozon» частично торгует книжной продукцией. «Полка» же — это случай, когда человек, который никогда прежде книжным бизнесом не занимался, создаёт своё дело. Без связей, без какого-то опыта, на чистом энтузиазме и желании. Как у вас эта история продвигалась? Встречались ли вам какие-то «подводные камни»? Может, кто-то помогал? Как, переехав в новый провинциальный город, с нуля основать собственное ИП?
— Конечно, довольно сложно сделать это вообще без знакомых. Когда мы только открывались, я, в первую очередь, написал, по-моему, ребятам из «Фаланстера» (Пете Аксёнову, возможно, ещё кому-то). Написал ему: «Привет, я рад, что у меня тоже получилось, я тоже открыл книжный магазин!». Причём без всякого [заднего умысла]! А они взяли, репостнули эту запись к себе. И, таким образом, нижегородские читатели «Фаланстера» узнали о том, что, оказывается, в Нижнем теперь есть независимый книжный магазин. В целом, у меня не было никакой стратегии.
— У «Фаланстера» есть читатели в Нижнем Новгороде и в других провинциальных городах?
— Да, конечно, их довольно много.
…Поэтому у меня не было никакой стратегии, ничего подобного. В целом, тут всё довольно спонтанно получилось. Открывать какое-то своё маленькое дело, в любом случае — всегда довольно сложно. У меня не было ни знакомых, никого. И, если бы не поддержка, на первых порах, каких-то независимых книжных, дружеские репосты, о нас бы вообще никто не узнал. Тем более, в Нижнем — потому что в Нижнем не так много читателей. Значительно меньше, чем в Питере и Москве, это уже классика.
Я до сих пор удивляюсь, как всё получалось. Учитывая, что у меня не было никакого опыта в этом. Я никогда не торговал книгами, не понимал, что такое книжный ассортимент и как его формировать. Я примерно представлял, книги каких издательств нужно заказывать. Но, в целом, это было очень спонтанно и очень любительски. В этом была, если можно так сказать, доля какого-то чуда. Не всем понятно это явление, но вся история «Полки» таким является.
— У вас были какие-то трудности на этапе вхождения в бизнес? Может быть, трудности с регистрацией дела, или ещё что-нибудь? Если предприниматель хочет открыть свой книжный магазин с нуля, что ему следует знать и к чему готовиться?
— Отвечу рекомендацией. Если человек хочет открыть независимый книжный, то пусть он напишет, например, мне или ещё кому-то. У нас есть сообщество людей, которые занимаются независимыми книжными. Мы периодически переписываемся. Все вопросы, которые могут возникнуть, можно задать всем. Потому что у всех разные истории. Начиная от системы налогообложения, которую выбирают, заканчивая кассовыми аппаратами. Тем, как вы ведёте свою бухгалтерию, где вы её ведёте, как регистрируетесь, и многое другое. Есть очень много нюансов. Книжный магазин в любом городе — это не только ассортимент и его специфика, но и специфика подачи документов, и всего остального. Бывают какие-то нюансы на региональном уровне, которые всплывают.
Даже когда была пандемия, и мы все были закрыты, каждый регион выходил из этого периода по-своему. Каждый магазин мог открыться вообще в разное время. То же самое было у нас — мы два месяца были закрыты. А другие позже или, наоборот, раньше.
Необходимо постоянно учитывать специфику регионов, но при этом понимать, что
а) оформление книжного магазина с юридической точки зрения — это то ещё веселье (хотя, если у вас небольшой книжный, то проблем с этим не будет);
б) нужно всё-таки помнить, элементарно, о налогах, чтобы у вас не было особых проблем.
Хотя у книжных магазинов, за исключением больших городов, оборот не такой значительный, чтобы быть под пристальным наблюдением налоговых органов. (Надеюсь, так оно дальше и будет). Это логично, потому что обороты у нас довольно смешные. Если сравнивать, например, с общепитом или какими-то другими бизнесами.
— Получается, вас с самого начала поддерживало профессиональное сообщество? Вы сразу с ними связались и консультировались?
— Да. В целом, так оно и было.
— Согласитесь, известный независимый книжный, особенно для провинциального города в России — это всё-таки история уникальная. Как правило, значимые независимые книжные (не только в России, но и во всём мире) концентрируются в крупных городах. Например, Strand Book Store из Нью-Йорка во многом известен потому, что располагается именно в Нью-Йорке. Можно ли сказать, что «Полка» стала своеобразным брендом вашего города? Сделаю немного хулиганское сравнение: шаурма на Средном рынке — это ведь тоже бренд Нижнего Новгорода в России. Про «Полку» можно сказать то же самое?
— Ну да, можно даже вынести это в заголовок. Что «Полка» — это «книжная шаурма» Нижнего Новгорода [*смеётся*]. Отчасти — да, потому что, когда в городе начинают говорить о книгах, давать какие-то рекомендации или что-то ещё, вспоминают обычно «Полку». Говорят: «Есть Саша, обратитесь к нему», «поговорите с ним». Или, опять же: «Запишите с ним интервью». Это, с одной стороны, хорошо — для меня. В целом, это плохо, потому что в любом городе, тем более, в городе-миллионнике должно быть не одно такое место. Не один независимый книжный магазин.
— Инфраструктура должна быть.
— Да. Должна быть не только «Полка». У нас есть небольшие книжные, но, в основном, это букинисты. При этом, у нас есть небольшая книжная сеть, исключительно нижегородская, они называются «Дирижабль». У них три магазина сейчас в городе, они довольно большие, популярные. Им уже 23, кажется, года, если не ошибаюсь. И это тоже хорошая история.
Очень многие читатели «Полки», особенно когда праздники, заходят целенаправленно. Они знают о том, что есть такой книжный. Из Москвы, из Питера, из Казани недавно ребята в первый раз заходили. Это закономерная история. Когда я приезжаю в другой город, я тоже захожу в книжные магазины, о которых я знаю. Даже в первую очередь, наверное, ищу книжные магазины в этом городе. Прихожу туда, покупаю, начинаю смотреть ассортимент.
Вы правы. Я до сих пор этому удивляюсь, но «Полка» стала, почему-то, действительно важным местом в городе. Несмотря на свои скромные габариты — если вы к нам приедете, вы увидите, что у нас скромное помещение. 18 квадратных метров. Но, при этом, несмотря на скромность площади — это знаковая история. Потому что я стараюсь думать про ассортимент, думать про читателей. И формировать какую-то, не побоюсь этого слова, культурную мини-инфраструктуру. Общаться с читателями, наставлять жителей города на чтение.
— У вас есть в магазине ещё какие-то проекты? Ваше помещение позволяет проводить лектории, допустим?
— Нет. Мы это делали до пандемии, начали делать. Даже что-то там переставляли, мини-лекторий сделали. Затем это на время прекратилось. Пока что, мы к этому не вернулись, потому что у нас очень скромная площадь. Конечно, в моих целях и мечтах, чтобы «Полка» стала чем-то большим. Книжный магазин не должен быть просто продающей точкой. Это должно быть местом притяжения каких-то культурных потоков, назовём это так. Местом проведения встреч, и многое другое. Многие читатели «Полки» познакомились в ней, и я считаю, это очень здорово. Так и должно быть. Люди должны знакомиться, общаться в книжном магазине.
— То есть, такое знаковое место с точки зрения общественной жизни и культуры?
— В целом, да. Многие здесь, повторюсь, познакомились, многое здесь происходило. Более того, если мы не размещали в своих стенах какие-то мероприятия, мы, как минимум, помогали с их организацией в городе. С теми, которые были для города важны.
— Вы сказали, что есть букинистические магазины Нижнего Новгорода, и есть ваш магазин. Различие между вами и ими кроется только в этом, то есть в ассортименте и культурной политике? Или ещё в чём-то? Почему вы такое разграничение провели?
— Я провёл его потому, что из независимых инициатив маленьких, увы, я могу назвать только букинистические. Есть ещё небольшой магазин «Подписные издания», они тоже довольно давно существуют. Они тоже занимают небольшую площадь, и там тоже свой ассортимент. Но, если говорить в целом, то маленькие книжные независимые инициативы в городе — в основном, это букинисты.
Более того, даже многие букинисты сейчас, как я знаю, отказываются от книг. Они меняют ассортимент, начинают торговать больше какими-то антикварными вещами, ложками, вилками, стаканами, многим другим. Потому что это выгоднее, дороже стоит, занимает меньше места. С этим больше оборот, чем с книгами, которые могут лежать очень долго, а стоят намного дешевле.
Во-вторых, мы уже больше года назад объединились с моим товарищем-букинистом, поэтому в «Полке» появилась букинистика. У нас есть хороший отбор нонфикшн-литературы, и есть внушительный букинистический отдел. В нём очень много книг, люди тоже это любят. Потому что букинистика изначально дешевле, тем более, если мы говорим о какой-то популярной художественной литературе. Она интереснее: бывает, в букинистику попадают книжки, тиражи которых уже закончились.
— Чем вы руководствовались на начальных этапах, когда составляли ассортимент? По какому принципу выбирали книги? Я читал ваши интервью, вы неоднократно заявляли, что очень придирчиво подходите к ассортименту. В вашей группе «ВКонтакте» (где вы рассказываете о книгах, продающихся в магазине), у вас очень много работ по антропологии, мифологии, и так далее. Фуко у вас есть. Это ваша интеллектуально-эстетическая ориентация? Как вы себя позиционируете с точки зрения ассортимента?
— Я раньше был довольно жёстким в плане ассортимента, особенно на начальном этапе. Я не хотел смягчаться, если честно, даже радикально. В самом начале я просто читал паблики других независимых книжных. Московских, которые уже существовали. Я смотрел прайсы издательств, искал эти книги в сети, читал отзывы. Пытался понять, нужно ли это.
Наверное, это связано с тем, что мне самому не хватает хорошей гуманитарной базы. Поэтому я тяготел к таким серьёзным интеллектуальным трудам. К философии, психологии, антропологии, литературоведению, многому другому.
У нас есть довольно хороший и уникальный для Нижнего Новгорода мини-отдел с философией. Один стеллаж. Там есть книги, которых не найти в других книжных города, это точно. А некоторых изданий, возможно, тиражи закончились даже в Москве. Неоднократно бывает так, что москвичи приезжают и покупают в «Полке» книги, которых в Москве уже нет. Потому что там интерес к ним больше. А у нас они остались, потому что такого высокого интереса не вызывают.
Поэтому я руководствовался ассортиментом других независимых книжных. Смотрел прайсы издательств, которые мне были интересны. И какие-то материалы на смежные темы. Проблема на тот момент была в том, что не было какого-то единого ресурса (и сейчас его нет), в котором ты мог бы найти любую хорошую книгу. «Горький» — прекрасный сайт, но он не может охватить весь спектр тем. Мне кажется, это первая ступень. Нужно больше таких СМИ, которые рассказывают о книгах. Тогда будет легче ориентироваться в ассортименте.
— Получается, основным критерием для вас был интеллектуальный голод?
— Да. Каждый независимый книжный — лицо человека, который его основал. Об этом неоднократно говорил Борис Куприянов, и не только он. Если человеку, условно, нравится фантастика, пусть он откроет классный магазин с фантастикой. Если больше тяготеет к гуманитарным наукам, это, тем более, очень узкий профиль. Эти книги на вес золота и они всегда нужны.
Да, я сам устроил себе проблему. Я бы мог заказать то, что читают все — какую-то художественную литературу популярную, романы, детективы. Продавать их прекрасно и не знать бед. Я же пошёл другим путём. И отсёк сразу аудиторию, которой могут быть интересны такие книги.
Но, с другой стороны, я стараюсь говорить о своих книгах и показывать их так, чтобы люди захотели их читать. Потому что я уверен, почти любой человек может (пусть даже, возможно, ему придётся напрячься) прочитать какую-то интеллектуальную книгу. Вообще, что мы подразумеваем под понятием «интеллектуального»? Это очень широкая тема. Что такое «интеллектуальная литература»? Нужно тогда разграничить чётко, что «интеллектуальное», а что нет.

— Поясните, пожалуйста, почему вы приценивались к прайсам? Вы целенаправленно хотели сделать свои книги дешевле?
— Во-первых, потому что в прайсах есть актуальный ассортимент. Во-вторых, я понимаю, что ценообразование для Нижнего Новгорода не может быть таким, как для Москвы. Люди в Нижнем Новгороде зарабатывают меньше. И средний чек покупки значительно меньше, чем в Москве.
Средняя московская зарплата — это примерно как хорошая зарплата в Нижнем Новгороде. Соответственно, я не могу делать на книгу огромную цену. Тогда её у меня просто не купят, или купят очень нескоро. Знаю одного книжного продавца, который категорически ставит очень высокие цены на некоторые книги. Но он делает это ради того, чтобы именно эта книга дольше пробыла в его магазине. Он находится не в Москве, а в одном из региональных городов.
— Насчёт уникальных изданий. Вы затронули эту тему: есть книги, которые всегда будут нужны, и при этом их тяжело найти покупателю. Возьмём, к примеру, Эрнста Курциуса.
Его известная книга «Европейская литература и латинское Средневековье» была издана во Львове ещё в 2007 году, на украинском языке. При этом она долгое время не переводилась на русский язык. Её только недавно издали в России.
Также, вы наверняка знаете, у книжного магазина «Циолковский» есть собственное издательство. Они как раз выпускают редкую литературу, за которую больше никто не берётся. У вас есть такое в планах и возможностях?
— Я бы очень хотел этим заниматься. Действительно, я не хочу, чтобы «Полка» была только местом продаж. Наверное, в январе-феврале прошлого года (до локдауна) мы обсуждали это с моим товарищем-букинистом. Есть очень много книг, которые всё ещё не вышли на русском языке. Более того, права на которые давно закончились, но их не переиздают по каким-то причинам.
История с Курциусом — это не первый такой случай. Примерно то же самое недавно произошло с Проппом. Но Проппа хотя бы издавали, он и так был на русском всегда. При этом его труд о сказке не переиздавали лет 20–30. И это аномалия. Эти книги всегда должны быть доступны для читателя широкого круга. Потому что Пропп — один из главных исследователей феномена сказки. Он всегда должен быть в книжных магазинах, но его не было много лет.
То же самое с Курциусом — это грустная история о том, как спустя почти 70–80 лет эта книга вышла. Так не должно быть. Я понимаю, что в Союзе, скорее всего, не хотели её издавать по каким-то причинам (возможно, идеологическим). Но она должна была выйти буквально после развала Союза. Вышла сейчас, хорошо хотя бы в 2021 году, что отчасти стыдно.
На украинском языке, действительно, многие книги издаются быстрее, чем на русском. Я не знаю, с чем это связано. При этом, конечно, украинский книжный рынок значительно меньше, чем русский. В разы. Но на украинском многие вещи появляются быстрее.
— Может быть, такова политика издательств в Украине?
— Может быть, они стараются выхватывать то, что не издавалось никогда. И что считается классикой. Курциус — это классика. [Не издать его] — это то же самое, как играть Баха или Чайковского только спустя 100–150 лет после того, как они всё написали. Я, кстати, не знал, что Курциус на украинском есть. Я бы тогда, может быть, быстрее взял его себе в домашнюю библиотеку.
— Ведь специфика украинского рынка в том, что очень много литературы приходит в Украину из российских издательств. Наверное, для украинских издателей есть смысл выпускать то, чего на русском языке ещё нет. Или переводить на украинский книги, которых нет в широком доступе. Предполагаю, что политика издательств Украины может быть мотивирована именно этим.
— Может быть, но я не знаю, почему так.
— Есть ли у вашего магазина какое-то общественное позиционирование? Эстетическое, или, может быть, политическое? Допустим, в Петербурге недавно открылся магазин «Чёрная сотня». Понятно, какая у них ориентация в политико-идеологическом плане. Есть ли у вас такая стратегия? Скажем, у вас ассортимент подобран по какому-то принципу? Не просто как любая интеллектуальная гуманитаристика. Есть ли у вас культурная, общественная, идеологическая, политическая и т.д. ориентация?
— Вы знаете, в книжном [магазине] её точно нет. Да и у меня самого её особо нет, я вам честно скажу.
— Это не обязательно должно быть именно политическое позиционирование. Понятие «общественного» очень многообразно.
— Я так про себя когда-то говорил: для «либеральных» людей я, наверное, слишком консервативен, для «консерваторов» слишком либерален. Это, скорее, о том, что у меня нет чёткой общественной позиции. Я считаю, что любая общественная позиция должна базироваться исключительно на мировоззренческом базисе конкретного человека.
Я не приемлю насилие в любом его проявлении. Не приемлю зло как таковое. И если б кто-то спросил, какое моё [кредо], я бы сказал так: «Постарайся просто не навредить другому никогда и ничем». Постарайся быть просто хорошим человеком. Это не значит, что нужно быть добреньким, розовеньким, и всё остальное. Оставайся собой, но старайся думать о других людях в первую очередь.
Почему я, например, смягчил ассортимент «Полки»? Я считаю, что, несмотря на моё тяготение к интеллектуальной литературе, я не могу не думать о своих читателях. Я понимаю, что должен привозить хорошие книжки, даже если они находятся вне моего поля зрения. И это нормально. Я должен выходить в поле зрения моих покупателей, которые мне что-то рассказывают, и искать книги, которые подойдут им. Даже если они не так близки мне. Благодаря «Полке» я узнал очень многое. Как раз потому, что не был радикален постоянно. Я узнал новых авторов, новые издательства, и многое другое.
Мне кажется, главное в общем принципе. У меня недавно спрашивали, что я понимаю под таким философским явлением, как Другое или Другой. Мне кажется, видеть Другого можно, если испытывать к другому человеку интерес и пытаться его понять и принять, несмотря на своё мировоззрение. «Принять» не подразумевает, что я заменяю своё мировоззрение чужим. Я пытаюсь его понять хотя бы. Это уровень умной дискуссии. Это первоочерёдно. Кто-то может называть это христианской идеологией. Ну да, конечно же.
— Или эмпатией.
— Эмпатией, да. Вообще, мне не очень нравится принцип позиционирования. Мне кажется, что в любом позиционировании ты поневоле ставишь какие-то рамки, ограждаешь себя от чего-то. Я понимаю, что с точки зрения маркетинга это хорошо. Потому что ты чётко говоришь: мы так-то называемся, у нас такая-то направленность, ко мне будут приходить такие-то люди. Это будет хорошо работать для формирования сообщества. Но в том и суть «Полки» — она объединяет абсолютно разных людей разных взглядов.
— То есть у вас никогда не было таргетинга? А что вы ставите на самое видное место?
— Я обычно кладу туда новинки, которые могут быть любопытны, интересны. Сейчас там лежит новая книжка Сергея Мохова, которая вышла в Common place. «Бредовая работа» Дэвида Грэбера. «Тоннель» Уильяма Гэсса — это такая толстенная книжка, американский постмодернизм. Ещё Фуко лежит, и книжка Антона Долина про «Твин Пикс».
— Просто продающийся ассортимент, который, скорее всего, заинтересует покупателей?
— Ну да, который будет интересен.
— Вы сказали, что сразу влились в профессиональное сообщество. Вы поддерживаете контакты не только с «Фаланстером» и другими игроками в Петербурге и в Москве, но и с маленькими (может, не очень известными) независимыми книжными по всей России? У вас есть общие проекты, может быть, вы рекламируете друг друга?
— Мы периодически друг о друге рассказываем, но общих проектов у нас всё ещё нет. Почему-то до сих пор этого не сделали, и это достаточно странно. Мы думали про какие-то общие истории, общий сайт. Сейчас «Все свободны» нарисовали карту независимых книжных магазинов в России. И это хорошо. Потому что люди, которые живут в том же Нижнем, или в Ижевске, в Красноярске, могут даже не подозревать о том, что у них есть какое-то классное книжное место. Это важный шаг, я считаю. Но, кроме этого, если говорить глобально, ничего подобного нет.
Может быть, это отчасти связано со спецификой ассортимента каждого книжного магазина и аудитории. Книжные — это всегда лицо города. Вернее, независимый книжный и его основатель — это одно. Нельзя сказать, что читателю в Москве понравится то, что происходит в Питере, и наоборот. Но, в целом, мы всегда стараемся друг о друге рассказывать, говорить о том, что у нас происходит. Мы друг к другу в гости заходим, когда оказываемся в других городах.
— В связи с этой историей, которой вы сейчас поделились. Можно ли сказать, что профессиональное сообщество независимых книжных магазинов по всей России ещё недостаточно консолидировано? Что им нужно теснее работать друг с другом? Если необходимо, то в чём это могло бы выражаться?
— Я бы так не сказал по одной простой причине. У нас есть чат, в котором мы все общаемся. Мы обсуждаем проблемы, проекты совместные, но иногда они оказываются под вопросом из-за каких-то совсем банальных причин. Начиная с технических проблем, которые пока нельзя решить — не из-за нас, а просто так всё устроено.
Я бы не сказал, что мы не консолидированы. Скорее, пока не понимаем до конца, какой формат взять. Общий сайт для продаж? Об этом говорилось несколько раз. Но как это сделать? Вы говорили про «Ozon», «Лабиринт»… «Ozon» или «Лабиринт» — это всё-таки одна компания, у которой много товаров…
— У них есть ресурсы.
— Ресурсы, склады, у них есть всё. У них сотрудники в регионах, логистика продуманная, транспорт. У нас есть, фактически, точки вывоза. И мы ещё можем пользоваться услугами транспортных компаний или почты. Логистика такая. Худо-бедно, мы можем придумать, как её настроить. Всего остального у нас нет. Мы же не можем выбрать условного президента или руководителя, который встанет над всеми нами. Во-первых, тогда какие-то финансы нужны. Во вторых, это же дело очень личное…
— Иерархия появится тогда.
— Иерархия, да. Если у каждого есть свой основатель, которого все и так знают, то теперь над ним кто-то будет стоять? Тут очень много вопросов. Мы, скорее, не можем понять формат. Это не значит, что мы не поддерживаем друг друга и не общаемся.
— Как вы пережили коронавирус? По вашим ощущениям, большие ли потери понёс книжный рынок от пандемии и от локдауна?
— Потери он точно понёс. Были недавно цифры, что общий тираж в 2020 году был на уровне 1940 года. Там 350 миллионов — то есть он существенно просел по количеству изданных книг на 30%. Это много. Закрылись многие книжные магазины. Благо, ни один независимый книжный не закрылся, хотя могу ошибаться. Был довольно хороший ассортимент, но очень маленькие тиражи. Плюс был скачок цен на нефть, росли доллары. Соответственно, подорожала типография, полиграфия. И на фоне этого мы два месяца не могли работать.
Конечно, этот год был самым тяжёлым за всю историю независимого книгоиздания и книжных магазинов. Но вместе с этим он был одним из главных катализаторов [деятельности] в этом году. Многие открыли онлайн-продажи в этом году, как Фаланстер. Мы наконец завели книжные сюрпризы как явление, которые я уже давно хотел ввести в обиход. Это когда человек заполняет анкету, и ты на её базе подбираешь какие-то книжки для него на комфортную сумму. Разные активности начали проводить. В независимых книжных все начали что-то придумывать.
— Как в весенне-летний период, когда всё было перекрыто, выживали лично вы? «Фаланстер», например, организовал курьерскую доставку для себя. А у вас была возможность торговать?
— Мы не торговали. Только приходили иногда в книжный, собирали посылки и отправляли их в другие города. Да, мы два месяца были полностью закрыты. Но у меня есть удалённая работа, поэтому глобально ничего не поменялось. Но это был сильнейший опыт за последние шесть лет для меня.
— В одном из интервью вы говорили, что вам удалось найти удачный баланс между разными сферами жизни и видами деятельности. Вы автор текстов, у вас есть какая-то сторонняя деятельность. И у вас есть книжный, но он вас не отягощает. Как вы нащупали этот баланс?
— Баланс элементарный, это не моё открытие. Вы не думаете о том, сколько заработаете в этом месяце, потому что у вас есть удалённая работа. Многие мои коллеги так работают: у них есть работа, между которой они прибегают в книжный и что-то делают. А потом опять возвращаются к работе. Мы рассматриваем иногда книжный как какое-то дело, а не исключительно заработок.
Я хотел бы, наверное, заниматься исключительно книжным. Но пока что всё существует так, и мне это нравится. Самое главное: я могу продавать то, что хочу. А не думать, что нужно срочно привезти в книжный, потому что это лучше продаётся.
— Философски, в чём для вас разница между делом и заработком?
— Я когда-то говорил, что в изначальном понятии бизнес — это дело. А у нас с течением времени это смешали с деньгами. Для меня бизнес не равен деньгам, для меня это дело. То, что ты делаешь, потому что считаешь важным.
— Некая общественно значимая деятельность, миссия.
— Верно. На Западе это называют, скорее, просвещением. У нас всё смешалось в одну кучу. Для меня это, в первую очередь, просветительская история. Деньги должны быть отдельно, если есть такая возможность. Если у вас есть возможность продавать классные книжки и ещё зарабатывать хорошие деньги — это прекрасно. Но дело в том, что книжное ценообразование абсолютно не такое, как в общепите. Не такое, как почти в любой другой сфере деятельности. Там минимальная наценка, очень большие расходы. Продукт, который очень долго продаётся, если говорить таким языком, исключительно денежным. Эти все нюансы приводят к тому, что открывается больше ресторанов и кофеен, чем книжных магазинов. Потому что это, элементарно, выгоднее.
— На Западе это как раз история про миссию. В протестантской культуре есть понятие «Beruf», то есть призвание. Это то, что человек хочет привнести в мир полезного от себя. Он не обязательно рассматривает это как доход. Он видит это как нечто важное, что хочет оставить для других людей. Христианские корни в этой идее есть.
— Да, абсолютно верно. То, что я оставлю. Дело даже не только в бизнесе, но и в памяти. В том, как это происходило. В Нижнем, например, до сих пор вспоминают книжный магазин, который уже закрылся. Когда некоторые читатели попадали в «Полку», они вспоминали этот книжный: «Было похоже, как там». Там были очень крутые книги, хороший подбор интеллектуальной литературы. Да, действительно, это то дело, которое должно быть.
Любой книжный — это небольшой двигатель от чего-то к чему-то. Если хоть один читатель «Полки» прочитал книгу, и это принесло ему какую-то условную «пользу» — это уже хорошо. Я уверен, что их уже значительно больше. В этом суть: если нет пользы в деле, зачем тогда деньги? Если нет денег — тогда какой вообще смысл во всём этом? Если нет ни денег, ни идеи, вообще ничего. Дело ради дела — тоже странно.
— Кстати, насчёт истории. В Нью-Йорке есть очень много книжных магазинов, с которыми связана своя богатая и насыщенная традиция. Недавно про них снимали документальный фильм…
— Да, я смотрел.
— Я такую аналогию приведу. Есть у Нижнего Новгорода черта, которая роднит его с Москвой — это центральная пешеходная улица. Как Арбат в Москве, у вас это Большая Покровская. Мне кажется, можно провести параллель между современной сетью «Московский Дом Книги», которая начинала свою историю в 1967 году как один-единственный книжный магазин. У него уже есть богатая история. Мне кажется, «Полка» тоже со временем может превратиться в большой проект, о котором можно будет снимать фильмы или писать книги.
— Ну, может быть. Для этого нужно значительно больше времени. Развитие в регионах идёт в полтора-два раза медленнее. К тому же, в Нижнем уже есть своя небольшая сеть. Поэтому вряд ли я бы хотел, чтобы у нас была прямо сеть. Мне бы, скорее, хотелось расширить магазин, ассортимент, тематику, организовывать мероприятия. Хотелось бы, чтобы на стене здания появилась памятная табличка или что-то подобное в тот момент, когда нас здесь уже не будет. Любые хорошие дела обычно остаются в истории, о них рассказывают.
Мне кажется, история любого дела — она интересна. Другой вопрос — хочет ли об этом кто-то рассказать? Кинорежиссёр, писатель, исследователь. Но это всегда интересно, потому что за любым делом стоит история одного человека, который это дело начал. Бывает компания, но чаще всего это один человек.
— Я, скорее, не о том, что «Полка» должна превратиться в сеть, как МДК. Скорее, о том, что «Полка» стала культурным феноменом. Как, например, литературные кружки начала ХХ века.
— Конечно, я хочу, чтобы так было. Отчасти это уже происходит.
— А у вас есть какое-то нижегородское культурное сообщество, которое вместе с вами делает какие-то проекты?
— Есть, но их немного. У нас бывают точки пересечения, но общих проектов сейчас нет. Что-то подобное было. В своё время в стенах «Полки» стартовал курс по американской поэзии, начиная от Уитмена, Эмили Дикинсон, и до нашего времени. Я очень рад, что это начало происходить в наших стенах. Но в этом деле есть удивительная разрозненность.
Может быть, не так много людей готовы это делать. То, что вы сказали — это прекрасно, но не всегда должно происходить. Скорее, книжный должен брать инициативу в свои руки, всё это организовывать. Быть точкой притяжения. Вбирать разных людей с разными интересами, которые могут читать лекции, обсуждать фильмы, музыку, всё что угодно.
— Спасибо большое за интервью, Александр!
— Не за что!
Поддержите «Полку» подпиской во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Читайте также интервью с Максимом Сизинцовым, основателем книжной лавки «Книга Максима».











