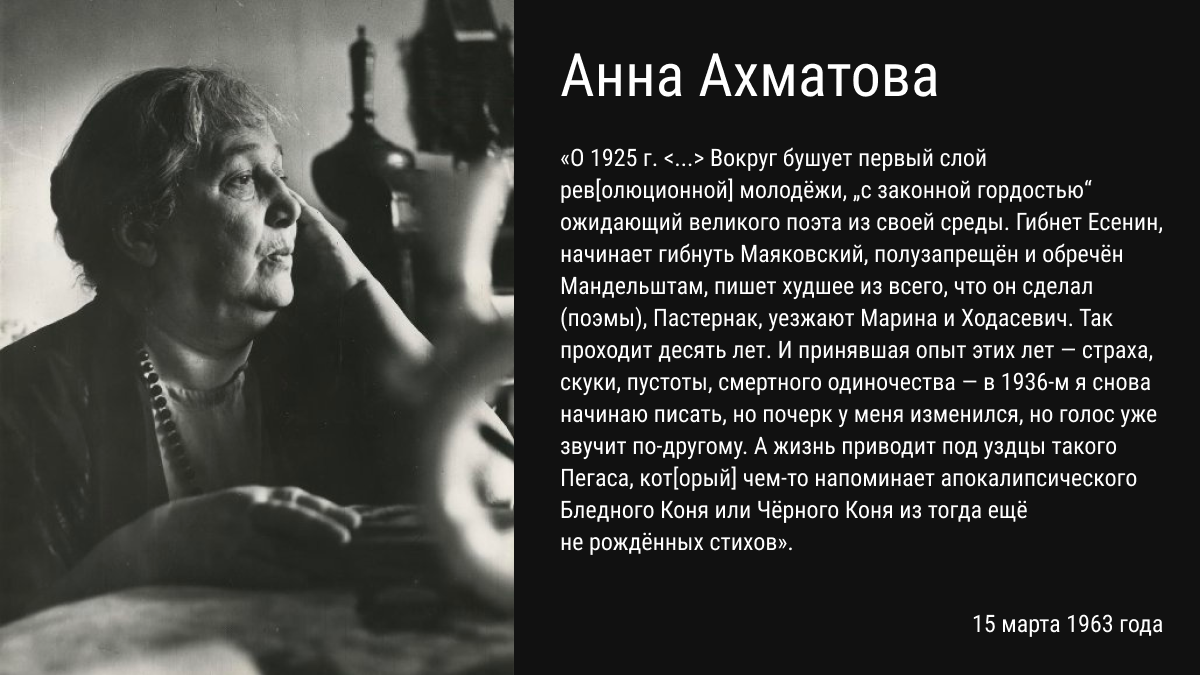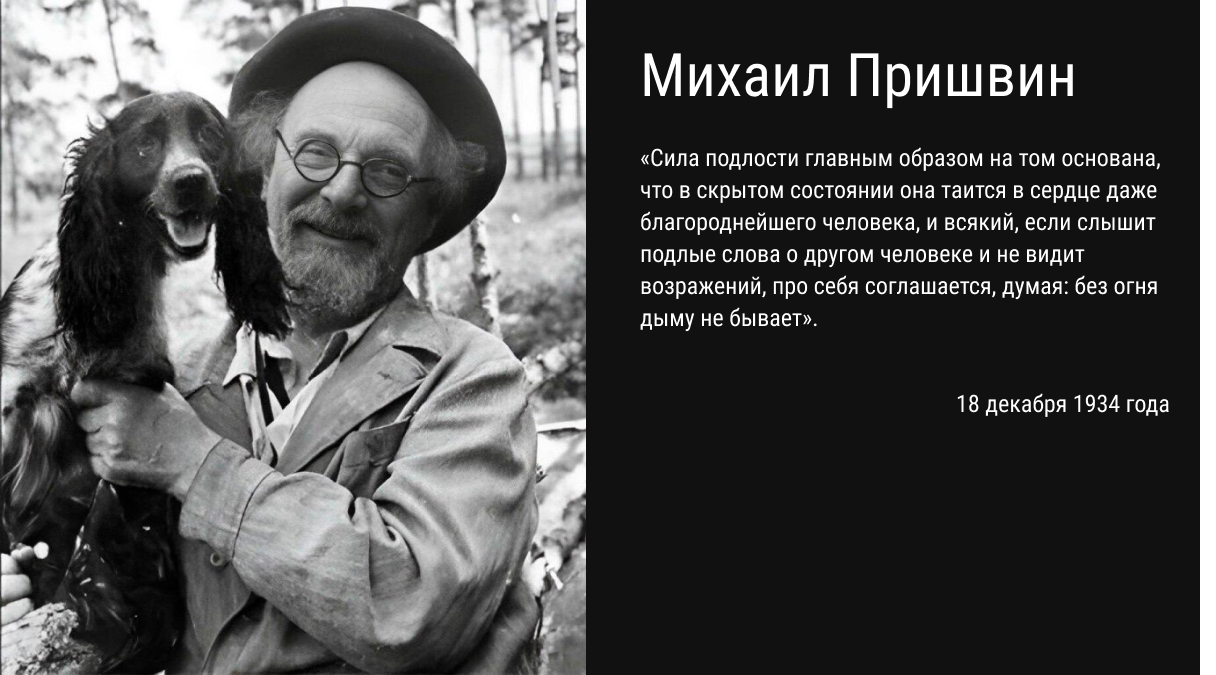Дневники писателей и поэтов советской эпохи — документ, важный не только с точки зрения литературы и истории. Мысли, спрятанные на страницах тетрадей и записных книжек, могут вызвать симпатию, сострадание и благоговейный трепет перед талантом любимого автора, а ещё — острое чувство разочарования, ужаса и даже брезгливой жалости.
Обитатели отечественного литературного олимпа были обычными людьми. Нервные, испуганные, сомневающиеся, страдающие от безденежья и алкоголизма, они находились в постоянной борьбе с собой и миром. Кто-то вышел из этой битвы победителем, кто-то погиб на поле брани, перемолотый жерновами репрессивной машины или измученный душевной болезнью.
VATNIKSTAN предлагает познакомиться поближе с советскими мастерами слова, полистав оставшиеся после них дневники.
Михаил Булгаков
От личного дневника Булгакова, который он вёл в начале 1920‑х годов, сохранились лишь отрывочные записи. Они получились под стать автору — загадочные, почти лишённые эмоций, но имеющие двойное дно, обнаружить которое способен только внимательный читатель. Отчасти это обусловлено личностью Булгакова, отчасти — самоцензурой. Так, говоря о событиях в стране, писатель лишь изредка позволял себе обозначить собственную позицию двусмысленными высказываниями вроде: «Мне с моими взглядами… трудно печататься и жить» или «Не нужно говорить о политике ни в коем случае».
Даже личное он доверял бумаге лишь отчасти. Жалобы на нехватку денег, тревожные размышления о будущем и собственной литературной карьере порой напоминают выдержки из медицинской карты нервного больного (что неудивительно, учитывая первую профессию Булгакова). Но тем интереснее читать эти лаконичные записи, разбирая их по косточкам, смакуя каждую авторскую мысль — острую, как медицинская игла («Всё идёт верхним концом и мордой в грязь»), или бесформенную, как комок ваты («Порхают лёгкие слушки, и два конца из них я уже поймал. Вот сволочь!»).
Даниил Хармс
Дневниковые записи Даниила Хармса изображают его как педантичного, мнительного человека, который постоянно стремился упорядочить своё существование: он пытался следовать «правилам жизни» («Каждый день делай что-нибудь полезное», «Изучай и пользуй хатху и карму-йогу» и прочие), устанавливал себе строгий режим дня, составлял бесконечные списки дел и книг, тщательно подсчитывал траты и долги. Тут же писатель тосковал по первой жене, проклинал художницу Алису Порет (с которой у Хармса был кратковременный роман), рассказывал о драных гетрах и мятом пиджаке.
Во второй половине 1930‑х всё резко погрузилось во тьму. На происходящее вокруг намекают лишь осторожные записи, сделанные летом 1937 года: «Надо быть хладнокровным, т. е. уметь молчать и не менять постоянного выражения лица» и «Когда человек, говорящий с тобою, рассуждает неразумно, — говори с ним ласково и соглашайся». «Я достиг огромного падения. Я потерял трудоспособность совершенно. Я живой труп», — писал измученный страхом и голодом Хармс. Он постоянно обращался к богу и просил только одного — поскорее послать ему смерть.
Корней Чуковский
Дневники Корнея Чуковского — это история выживания литератора в эпоху тотальной цензуры, тесно сплетённая с личными трагедиями и творческими исканиями. В 1920‑е — нападки «борца со сказкой» Надежды Крупской («Только что сообщили мне про статью Крупской. Бедный я, бедный, неужели опять нищета?»), в сталинскую эпоху — продолжительная болезнь и смерть дочери («Лежит бледная, безглазая, с обритой головой на сквозняке… тоскует смертельной тоской»), постоянный страх и скрытая ярость, которая звучит сдавленным, словно сквозь сжатые зубы, рычанием в описаниях бытовых мелочей и встреч с коллегами.
Позже, уже обласканный народной любовью и награждённый букетом премий и орденов, автор «Крокодила» и «Телефона» будет всё чаще думать о приближающейся кончине, видя в ней не катастрофу, а избавление. Вообще, подобные размышления — одна из главных особенностей дневника писателя. Узелок красной нити, которой тема смерти проходит через записи Чуковского, завязался в 1921 году, когда он ради интереса посетил крематорий. А дальше — бесконечные стежки, сшивающие десятилетие за десятилетием. Сначала — редкие, неровные, затем — будто отстроченные на машинке опытной швеёй.
Марина Цветаева
От чтения дневников Цветаевой порой становится неловко — кажется, будто тайком копаешься в чужих личных вещах. В записях поэтесса предельно откровенна, и от этой откровенности к горлу то и дело подкатывает колючий ком.
Ранние дневники рассказывают о счастье, любви к мужу и дочери, жизни в солнечной Феодосии. Дальше — взрослее и серьёзнее: размышления о судьбе, поэзии, материнстве, семье, одиночестве и, наконец, смерти. В эмиграции Цветаева признала:
«Роковая ошибка — моё рождение в России! <…> Франция для меня легка, Россия — тяжела, в Герм[ании] ноги на земле, голова в небе».
После возвращения на «тяжёлую» родину записи в дневнике стали короче, но били больнее. Цветаева переживала опалу, безденежье, арест дочери, но продолжала ходить с высоко поднятой головой. Увы, причиной тому не устойчивый внутренний стержень и не сила характера. Цветаева писала:
«Никто не видит — не знает, что я год уже… ищу глазами — крюк, но его нет, п[отому] ч[то] везде электричество. Никаких „люстр“…»
И то ли обжигает, то ли резким холодом обдаёт её мрачное пророчество, которому суждено сбыться.
Ольга Берггольц
Ранние дневники Ольги Берггольц отражают ломку старых установок под влиянием новой реальности. Юная девушка из религиозной семьи называла Христа «великим коммунистом» и заявляла о желании вступить в партию. В 1930‑е годы она осталась верна действующей власти, но — воистину безумство храбрых! — не боялась открыто критиковать её вслух и на страницах дневника.
В 1938 году — арест. Дневники конфискованы. И… возвращены хозяйке, которой каким-то чудом удалось вернуться на свободу («Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!»).
Осенью 1941 года будущая «Ленинградская Мадонна» безумно влюбилась в литературоведа Георгия Макогоненко, которому посвятила много сентиментальных записей, в то время как её супруг Николай Молчанов умирал от голодного истощения. «Я знаю, что Юра [Георгий] — блажь, защита организма, рассредоточение, и только», — оправдывала она себя. После войны поэтессу свалил с ног алкоголизм и замучали измены того самого Макогоненко, ставшего её вторым мужем.
Евгений Шварц
Читая дневники Евгения Шварца, вместо знакомого с детства доброго сказочника мы обнаруживаем сложного, нервного и вечно сомневающегося человека. Сомневающегося прежде всего в себе: склонный к самокритике, даже стремление к спокойствию и безопасности он называл «слабостью», которой стыдился. Мучающий его страх боли, навязчивое желание ладить с другими — всё это казалось Шварцу ничтожным и глупым.
То же и в творчестве: «Не могу писать, не могу писать честно, не могу писать глубоко, не могу писать достоверно, не могу писать не переиначивая…» Но честно и достоверно — нельзя. Даже на страницах дневника писатель умалчивал о своей вере и службе в Добровольческой белой армии. Вениамин Каверин считал, что часть дневников Шварца зашифрована в его пьесах, и выражал уверенность в том, что, когда «мемуары [Шварца] будут разгаданы и опубликованы, в русской литературе появится ещё одна великая книга».
Но и сейчас, пока такой книги нет, читать «отфильтрованные» мысли писателя можно и нужно. Читать ради подробных портретов современников, ради прекрасного, живого языка и меланхолических размышлений творческого человека, в которых наверняка узнают себя как начинающие, так и продолжающие авторы.
Анна Ахматова
Будучи очень сдержанной и скрытной, Анна Ахматова не могла поделиться мыслями даже с «терпеливой» бумагой. Не столько из-за угрозы репрессий, сколько из-за прочного внутреннего панциря, который скрывал от посторонних глаз истинные мысли и чувства поэтессы. Записать что-то личное — значит, пробить в этом панцире брешь. Раскрыть себя на листе бумаги — значит, бесстыдно обнажить тайны, предать себя.
Однако после смерти Ахматовой выяснилось, что дневники — точнее, записные книжки — у неё всё-таки были. В них царит полный хаос: списки дел и покупок, наброски стихов, размышления о литературе лишь изредка перемежаются с короткими личными записями. Эти разрозненные строчки складываются в запутанный лабиринт, где истинное прячется от любопытного чужака в закоулках и тупиках. Пройти этот лабиринт мало — нужно внимательно изучить каждый кирпичик, каждый камушек, который встретится на пути.
Михаил Пришвин
Записи, которые Михаил Пришвин ежедневно делал на протяжении почти 50 лет — с 1905 по 1954 годы, — занимают несколько томов. Содержание дневников приятно удивит тех, кто знаком с автором только по детскому рассказу «Лисичкин хлеб».
На страницах своих «тетрадок» — так называл их сам писатель — Пришвин размышлял на сложные темы: религия, свобода, цивилизация, отношения человека с государством, людьми и самим собой. Особое место занимают подробные описания природы, которые, будь они написаны не буквами, а мазками кисти, были бы достойны картин Куинджи и Левитана.
Пришвин — не просто писатель, но настоящий философ и художник, тонко чувствующий, глубокий человек, который видел красоту в обыденном и ценил каждый прожитый момент. Его объёмные дневники требуют неторопливого, вдумчивого чтения. Желательно — под абажуром торшера в мягком кресле с дымящейся чашкой чая на подлокотнике.
Юрий Нагибин
«Хороший писатель и дурной человек» — подобные отзывы нередко звучали в адрес Нагибина после публикации его дневника.
Действительно, уважаемый — пусть и не такой успешный, как его коллеги, — писатель оказался мизантропом, конъюнктурщиком, оппортунистом и пьяницей. И весь его дневник — это, как выразился литературный критик Виктор Топоров, «плач над собой и по себе». Но, если посмотреть на душевные терзания писателя под другим углом, можно обнаружить «кривую и спазматическую душу» (как говорил о себе сам Нагибин), которая металась в поисках себя настоящей, одновременно боясь потерять себя нынешнюю.
Многочисленные романы, алкоголь, потоки словесного яда, которым сочатся страницы дневника, — это отчаянные попытки залатать внутренний раскол, вызванный стремлением совместить писательский талант и государственный заказ, душевную чистоту и необходимость угождать действующей власти. По сути, Нагибин — тревожный и очень одинокий человек, ставший пленником эпохи, в которой ему пришлось жить. Оставьте белое пальто на вешалке: возможно, среди этих грязных, колючих, густых зарослей чужой души вы не раз встретите собственную тень и добрым (или не очень) словом помянете психиатра Карла Юнга.
Леонид Пантелеев
Завершает нашу подборку не совсем обычный дневник. «Наша Маша» Леонида Пантелеева — это скрупулёзное описание жизни и взросления его маленькой дочери Маши с первых дней жизни до пяти с небольшим лет. Отец регулярно делал записи, в которых рассказывал о поведении и привычках девочки, фиксировал её забавные слова и фразы, размышлял о методах воспитания.
Это лёгкое на первый взгляд чтение оставляет неприятный осадок. Во-первых, Пантелеев слишком увлекался идеей воспитать идеального человека, из-за чего часто бывал чересчур строг с дочерью. Во-вторых, Маша порой вела себя странно: её мучали приступы тревоги и страха (девочка боялась всего — от стрекоз до автомобилей), перед сном ей мерещился страшный «Он» с огромными глазами; она часто плакала, страдала перепадами настроения, не могла подружиться с другими детьми. Однажды Пантелеев застал дочь за «ободрацией» — Маша резала себе руку палкой (на тот момент ей около четырёх лет).
Пытаясь помочь девочке, писатель придумал для неё воображаемых друзей, роли которых исполнял сам. Общение казалось ему лучшим лекарством от нервной болезни. «Расти же, дочура милая, на радость нам и всем людям!» — написал он в конце дневника.
К сожалению, уже в подростковом возрасте Маша оказалась в психиатрической клинике, где и провела большую часть короткой жизни, ненадолго пережив родителей.