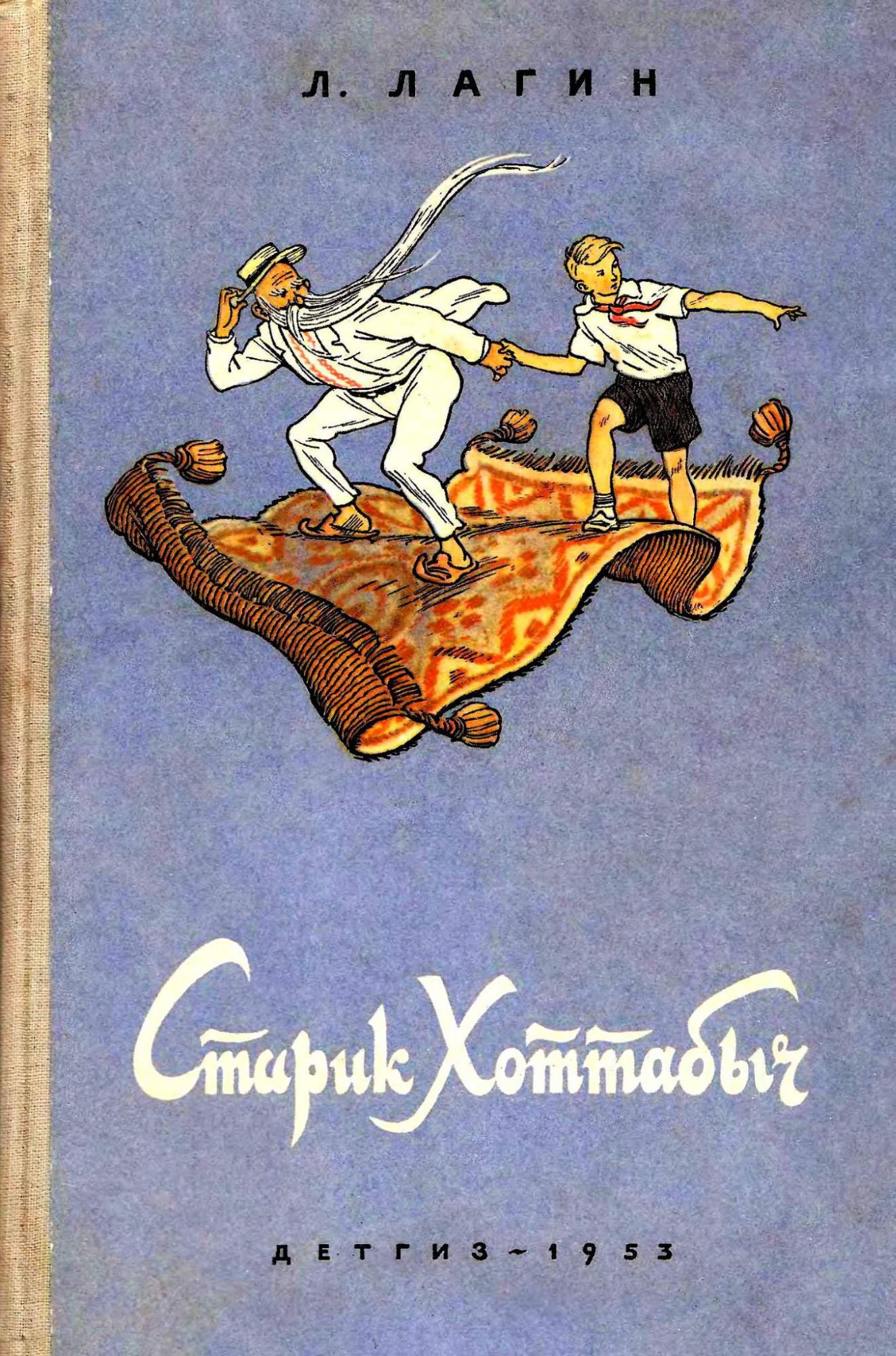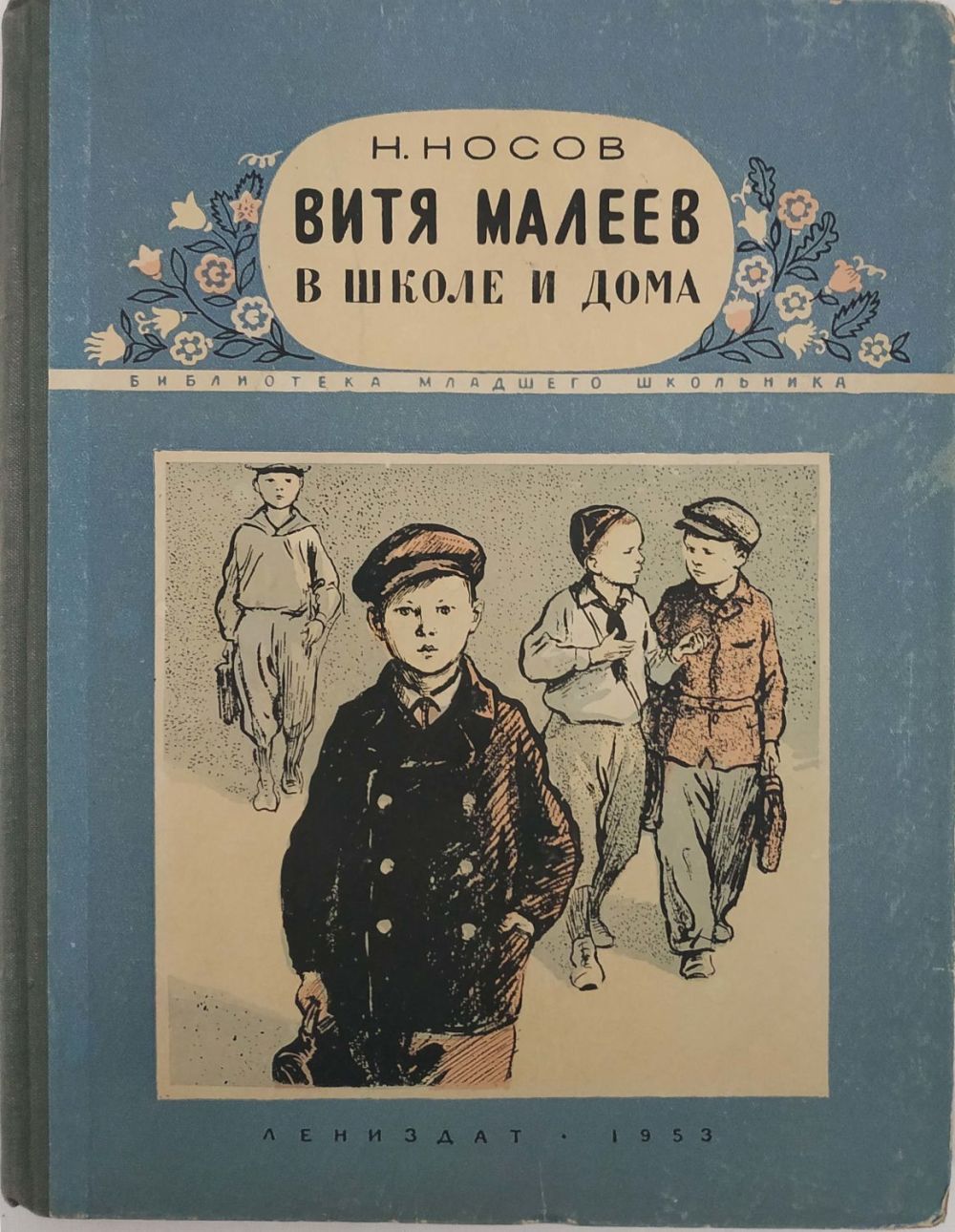Очевидный факт: современные дети мало похожи на Юру Баранкина, Галю Сологубову и других книжных учеников и учениц времён СССР. Тем не менее книги об их приключениях не исчезают из магазинов и собирают лайки в пабликах, посвящённых детлиту, а значит, их продолжают читать. В чём тут секрет — конечно, помимо того, что зачастую это просто очень хорошая проза? Пробуем разобраться, а заодно, по случаю 1 сентября, вспомним пять старых добрых произведений о школе.
«Дневник Кости Рябцева» (1927)
Школа первых лет советской власти — пространство неограниченной свободы. По крайней мере, такое впечатление производит «Дневник Кости Рябцева» Николая Огнёва — книжка, которая в своё время была международным хитом. Ученики занимаются по Дальтон-плану, успешно отстаивают право не вставать при появлении в классе «шкраба» (школьного работника) и то и дело повторяют, что они «революционеры прежде всего, потом — школьники и всё остальное».
Почти ничем не ограничены и внутренние монологи главного героя. Невозможно представить, чтобы кто-то из литературных школяров после 1920‑х годов так активно интересовался «половым вопросом». А вот Костя не стесняется и рубит подростковую правду-матку. Правда, упоминая о занятиях мастурбацией, он стыдливо использует эвфемизм «фим-фом пик-пак», созвучный современному «фап», но контекст сомнений почти не оставляет:
«Ещё с неделю назад я выпросил у Никпетожа книжку „Гимназисты“, из которой он нам вычитывал про Карташова и Корневу. И в этой книжке меня поразило одно место, где рассказывает, как Тёма Карташов, возвращаясь домой, увидел у горничной Тани белую ногу выше колена и… Я теперь почти не сплю, мне всё представляется эта Таня и, конечно, фим-фом пик-пак. Это очень мучительно, голова у меня тяжёлая, и почти не могу заниматься».
Или другой пример: услышав слово «аборт», Рябцев решает выяснить его значение у более просвещённого одноклассника. Товарищ даёт ему газету с рассказом, в котором со всей возможной для подростковой книги откровенностью описывается случай с нежелательной беременностью. Сама сцена аборта заставляет содрогнуться:
«Манька скинула халат, легла куда велели, и тут же рядом с ней очутилась давешняя докторица, взяла Манькины руки, развела их в стороны, кто-то ещё потянул Манькины ноги, сколько-то жуткого времени прошло, и в тело, прямо в сердце, разворачивая его и леденя, вошла невероятная, нестерпимая, несосветимая боль и жгучим, калящим своим остриём засверлила всё дальше и глубже. „О‑о-о-о-ой!“ — захотелось закричать, завыть, заорать, но Манька закусила губы, закинула голову назад, а наверху был светлый, очень высокий потолок, он был белый и беспощадный, он словно говорил: „Ну, не сметь орать, лежи смирно, сама, чёрт паршивая, виновата“. Но боль не прекращалась, она охватила всё тело, боль стала живой, боль ожила и острые когти свои вонзила в Манькино тело и сверлила, сверлила, сверлила без конца, без пощады, без надежды… Потолок помутнел, улетел куда-то ещё выше, и вот уже не стало видно, в глазах стала какая-то мутная, нудная пелена, и она соединилась с болью, заполнила всё Манькино тело, отделила Маньку от земли, от людей, от больничной комнаты. Манька стояла одна, одна во всем мире, и осталась с ней только боль — бешеная, въедающая, разрывающая тело на куски, на части, на мелкие кусочки, и в каждой крохотке этой разорванной была всё та же нестерпимая боль. Потом в сознание вошло: „Ну, когда ж кончится? Когда? Ну, когда?!“ Боль стала утихающей, замирающей, словно уходила прочь, умирала… Руки стали свободными: значит, их выпустили, значит, их выпустила докторица; значит, всё кончено, можно уходить. Но боль ещё держала изнутри. Манька поднялась, опять упала, увидела потолок, докторицыны чёрные глаза.
— Молодец, малышка, молодец! — сказал ласковый и румяный доктор. — Прямо молодчина: такая малышка, а не кричала. Крепкая!»
Но хватает в книге и смешного. Оцените сочинение, написанное одной из учениц по «Евгению Онегину» Пушкина:
«Евгений был сын одного разорительного барина: он поехал в свой уголок и увидал, что дядя лежит на столе. Он стал увлекаца деревней, но скоро потерял своё увлечение и очаровался. Татьяна была помещицей. Она читала романы, била служанок и носила корсет. Она очаровалась Онегиным и велела своей няни написать ему письмо. Наня послала своего внука с письмом к соседу. Татьяна очень очаровалась Онегиным, он был уже всегда под изголовьем, они ходили по бедным и страдали тоску. Но за Татьяну вступился поет Ленский. Ленский был во всем наперекор Евгению, они каждый день дрались. Один раз Онегин пульнул в него из ривольвера и убил напролом. После этого Татьяна вышла замуж за своего друга генерала и жила очень даже богато, каждый день сбавлялась на пирах и на дворе была на примете. Ей муж был калека. Евгений увидал опять Татьяну и очень очаровался, он надевал на неё пальто, раздевал её. Евгений пришёл к ней, выразился в чувствах, но она выразилась, что замужняя за генералом и будет ему верна. На этом Евгений своё изложение кончил».
В статье «„Дневник Кости Рябцева“ в отзывах читателей» Ольги Виноградовой впечатлениями о первой встрече с Костей в детском или подростковом возрасте делятся те, кто читал повесть в годы застоя, в перестройку и после распада СССР. Приведём оттуда несколько цитат.
Евгения Риц, поэт, литературный критик:
«Меня очень удивило, что я ничего про эту книжку не слышала: с первой страницы было понятно, что она должна была быть культовой у советских школьников, примерно как „Витя Малеев в школе и дома“».
Татьяна Сигалова, писатель, переводчик, филолог:
«Неожиданными были вставки ― школьная газета, журнальные рассказы. И, конечно, то, как в повести смело описан „половой вопрос“, в отличие от ханжеского замалчивания этой темы или осуждения „разврата“ в советской литературе более позднего времени».
Илья Бернштейн, издатель:
«Именно из „Дневника Кости Рябцева“ я узнал сюжет „Гамлета“. Так до сих пор его и представляю: Гамлет шьётся с Офелией и кричит как сумасшедший: „Оленя ранили стрелой!!“»
Елена Романичева, кандидат педагогических наук, доцент:
«Помню разговор с подругой‑одноклассницей, которой книжку дал кто‑то из друзей, и её реплику: «Ты что? Это же читается как собственный дневник!»
Ольга Фикс, медсестра, литератор:
«Внутренний мир Кости мне запомнился больше внешних обстоятельств. Помню вечеринки, где ребята тайком выпивали и тискались с девчонками. И как Костя с изумлением узнал, что некоторые не только тискались.
Мне было лет четырнадцать-пятнадцать, но жизнь у меня была в чём‑то уже довольно взрослая, как у многих в этом возрасте: не в смысле реальной половой жизни, но всяких желаний, попыток разобраться во взрослых отношениях, периодически накатывающей тоски. Чувство, что в школе всё это табуировано, мешало говорить об этом даже между собой. В [70‑е] годы вышла книжка Майи Фроловой „Современная девочка“ о послевоенном Львове. Она гораздо хуже написана, чем „Дневник…“, но в ней тоже было о сексе. Других таких книг и не припомню. В литературе все школьники от первого до десятого класса были одинаково бесполые, и проблемы у них в любом возрасте были одинаковые: учёба, бедность‑богатство соучеников, ссоры из-за места в классной иерархии, и, изредка, любовь ― но тогда уж чистая и на всю жизнь. Ты на этом фоне чувствовал себя каким-то особенно грязным и неправильным. А Костя был живой. И такой лапоть немножко: вокруг жизнь, секреты, а он столько не знает и не понимает. <…>
Для Кости очевидно, что политика важнее учёбы. Большинство людей вокруг него не имеет высшего образования. А вот политическое самоопределение принципиально важно. Мы же им где-то завидовали, этим революционерам 1920‑х. Вокруг Кости и его сверстников мир так стремительно менялся, что верилось, что всё возможно, надо только потрудиться и потерпеть. А мы ни во что, кроме самих себя, не верили».
Таким образом, кажется очевидным, что одна из основных причин популярности книги — её абсолютная, порой хулиганская, а порой серьёзная, взрослая искренность. Огнёв, который в качестве педагога много работал с детьми, в том числе неблагополучными, умел говорить с ними на равных. И это работает даже сейчас, когда советская эпоха со всеми её внешними атрибутами ушла в прошлое.
«Старик Хоттабыч» (1938)
Никому из советских школьников не везло так, как Вольке Костылькову: в повести Лазаря Лагина его товарищем стал настоящий джинн, обладающий почти неограниченными возможностями. Правда, не всегда чудеса Хоттабыча идут во благо, и всё равно — можно только позавидовать тем удивительным событиям и материальным бонусам (хотя от последних Волька часто отказывается), которые привносит в жизнь обыкновенного пионера Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб.
Именно в открытом настежь роге изобилия видит секрет успеха книги литературовед Александр Архангельский:
«Это книжка про халяву. Очень русская книжка. Как в детстве я восхищался ею по этой причине, так и во вполне зрелом состоянии. <…> В нашей традиции скатерть-самобранка просто не должна сворачиваться. Поэтому пока есть волоски в бороде у Старика Хоттабыча, жизнь будет продолжаться. <…> Помните эпизод на футбольном поле, когда на каждого игрока сваливается по одному мячу. Сам Лагин не понимал, что это и есть наш идеал. Мы бы хотели, чтобы на игровом поле было 22 мяча».
Возможно, когда «Старик Хоттабыч» только появился, у него было больше сознательных читателей, которые радовались принципиальности Костылькова и осуждали «старорежимного» джинна. Но сегодня всё наоборот: от поведения Вольки при чтении зачастую берёт досада. Однако и он вместе с другом Женькой с удовольствием вкушает предлагаемые Хоттабычем восточные кушанья, катается на ковре самолёте за границу или проходит без билета на футбол, по выражению Архангельского, «упиваясь бесконечным чудом, которое распространяется вокруг тебя, как благовоние».
Есть и другие точки зрения. Неявный драматизм текста Лагина отмечает киновед и кинорежиссёр Олег Ковалов:
«Достоевский, как известно, когда писал „Идиота“, говорил, что идеальный человек пришёл в мир, и мир его не принял. <…> Старик Хоттабыч пришёл в замечательный советский мир, и мир его как бы принял, но принял очень странно, переделал. В фильме Казанского [„Старик Хоттабыч“ (1956)] мы видим, что всесильный джинн способен только на то, чтобы выступать в цирке, видите ли. Но в повести Лагина куда более страшный сюжет. Всесильный джинн становится советским обывателем, доминошником, радиолюбителем и читателем советской прессы, не отличаясь от старичков на дворе. Вот те раз. Насколько грустный конец сказки».
Филолог и журналист Яна Титоренко добавляет:
«„Гамлет“ на фоне личной трагедии Хоттабыча кажется детской байкой. Всесильный джинн фактически становится „маленьким человеком“, неспособным преодолеть сопротивление бюрократической машины».
Сам Хоттабыч не чувствует себя ущемлённым системой. Гораздо больше его тревожит невозможность наладить отношения с названным внуком Волькой. Ковалов замечает:
«Какие слёзы вызывал монолог Хоттабыча, обращённый к Вольке! Он говорит: „Волька, я не знаю, как тебе угодить. Я делаю всё для тебя, а ты недоволен моими чудесами“. Мольба старика, который не может угодить чёрствому догматичному внуку — прошибает, переводит всё произведение в план очень любопытной воспитательной сказки. [Особенно] в фильме — маленькие позитивисты, функционеры-пионеры, очень неинтересные, и рядом чудо: старик, который может всё. И это не нужно! А мы тебя в цирк сунем, там и показывай свои фокусы! Есть чудо, так надо его использовать, пусть трудящихся развлекает. И на том спасибо. Могли бы и к стенке поставить».
Кроме того, три редакции текста 1938, 1953 и 1955 годов, которые серьёзно отличаются друг от друга (порой Лагин убирал целые главы и дописывал новые) — прекрасный плацдарм для филологических исследований. Одно из них было предпринято Яной Титоренко в рамках статьи «СССР глазами джинна». В частности, Титоренко обращает внимание на «смягчение нравов», которое наступило в 1950‑е годы в сравнении с 1930-ми и отразилось в языке и поведении персонажей:
«В первой редакции Волька, например, слышит „раздражённый голос матери“, во второй слова „раздражённый“ уже нет. 1938 год: «„Наконец-то!“ — накинулась на него мать». В 1955 году она уже не накидывается.
Интонация подчас тоже сильно отличается: в первой версии Хоттабыч „заорал на всю площадь“, во второй — „вскричал“. Меняется и сам характер Вольки. Сравните капризную требовательность первого („Я желаю немедленно очутиться на полу“) с вежливостью второго („если это вас не затруднит… будьте добры… конечно, если вас это не очень затруднит… Одним словом, мне бы очень хотелось очутиться на полу“). Волька‑1: „Разве это я говорю? Это вон он, этот старый болван говорит!“ Волька‑2: „Это вон он, этот старик, заставляет меня так говорить…“»
Подводя итог наблюдениям, Титоренко говорит о формуле популярности исследуемой книги:
«Видимо, секрет успеха „Старика Хоттабыча“ не только в том, что наивность джинна близка читателю, не только в забавных и ироничных моментах, высмеивающих эпоху, но и в обещании утопии, где хотелось бы жить каждому, — с честными пионерами, которым не нужны дворцы, с радио и ледоколами, И Хоттабыч растворяется в этой утопии, потому что в ней не нужна магия, поскольку всего может достичь наукой и трудом».
Однако утопия утопии рознь. Во второй половине нулевых годов Наталья Лагина — дочь Лазаря Лагина — написала повесть «И снова Хоттабыч», сиквел в трёх частях. В ней джинн и его юные друзья отправились в будущее, где устроили себе бесконечные каникулы — фастфуд, кока-кола, одежда со стразами, катание на иномарках и прочие блага развитого капитализма. Вот только получилось скучновато: по всей видимости, Гассан Абдуррахман не годится для условно идеальной среды. Чтобы книжку хотелось читать, её герои постоянно должны совершать какие-нибудь подвиги — бороться с карикатурными капиталистами или держать экзамены по географии.
«Витя Малеев в школе и дома» (1951)
В центре сюжета классической повести Николая Носова — два ученика четвёртого класса Костя Шишкин и Витя Малеев. Первый испытывает большие трудности с постижением русского языка, второй — с математикой, что сказывается не только на отметках, но и на отношениях с социумом: учителями, родителями и более ответственными и сознательными товарищами.
В целом, традиционная воспитательная книжка могла бы затеряться среди себе подобных, однако этого не произошло. По справедливому замечанию историка культуры Марии Майофис, «большинство произведений лауреатов Сталинской премии сегодня помнят лишь историки литературы, и только повесть о Вите Малееве активно переиздаётся до сих пор». В статье «Как читать „Витю Малеева в школе и дома“» Майофис проводит глубокий разбор текста, в том числе указывает на неочевидные подтексты, которые делают его притягательнее:
«Несмотря на то что повесть была фактически написана по министерскому заданию, „Витя Малеев“ несколько десятилетий был востребован читателями. Почему? Носов соединил сюжет о борьбе с неуспеваемостью и притчу о кающемся и спасённом грешнике, добавив в свой текст иронию — редкую вещь в детской литературе сталинского времени».
Под «кающимся интеллигентом» Майофис подразумевает Костю Шишкина, ссылаясь на критика Зиновия Паперного и его статью «Витя Малеев в журнале и книге». В доказательство этой точки зрения она сначала приводит следующий монолог терзаемого муками совести прогульщика:
«Я так мучился, пока не ходил в школу. Чего я только не передумал за эти дни! Все ребята как ребята: утром встанут — в школу идут, а я как бездомный щенок таскаюсь по всему городу, а в голове мысли разные. И маму жалко! Разве мне хочется её обманывать? А вот обманываю и обманываю и остановиться уже не могу. Другие матери гордятся своими детьми, а я такой, что и гордиться мною нельзя. И не видно было конца моим мучениям: чем дальше, тем хуже!»
А затем комментирует его следующим образом:
«В ламентациях Шишкина едва различим новозаветный источник, совершенно невозможный для упоминания в советской печати: „Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех“ (Рим. 7:19–20).
Это сочетание иронии и психологизма с едва заметным христианско-моралистическим подтекстом и было необычным в общем унылом контексте школьной повести и обеспечивало её долгую популярность среди детей и особенно — родителей и учителей, которым этот психологизм, вероятно, казался ещё более достоверным, чем их воспитанникам».
Кроме того, повесть Носова увлекает «магическим реализмом»: её герои постоянно делают то, чего не может быть. Например, учат считать и решать арифметические задачи собаку по кличке Лобзик или превращаются в лошадь для участия в школьном представлении.
Да, у всего этого есть реалистическая основа — пёс «считал» по тайному сигналу, то есть, просто лаял по команде, а лошадь была сшита по схеме из журнала «Затейник». Но каждый ли ученик четвёртого класса способен превратить домашнего пса в потенциальную звезду цирковых представлений или смастерить качественный костюм и суметь без подготовки сыграть в нём на сцене, сорвав овации?
Возьмём для примера главу, в которой Костя и Витя решают организовать в классе собственную библиотеку. Оказывается, сделать это очень просто — сначала заручиться согласием классной руководительницы, которая с лёгкостью «достаёт» откуда-то ненужный книжный шкаф, а затем пойти к школьному библиотекарю и попросить книг:
«Мы пошли к нашей библиотекарше Софье Ивановне, сказали, что мы теперь тоже будем библиотекарями в четвёртом классе и нам нужны книги.
— Вот и хорошо, — сказала Софья Ивановна. — Книги для четвёртого класса у меня есть. Вы сейчас их возьмёте?
Она дала нам целую стопку книг для четвёртого класса, и мы перетащили их в наш класс. Книг было много, штук сто».
Нет никаких упоминаний о том, что книги были старые или списанные — подумаешь, сто томов из фонда, от библиотеки не убудет. Как-то уж слишком просто, особенно для, мягко говоря, нежирных послевоенных времён.
Но по всему видно, что Носову и не нужен «реальный» реализм. В его реальности можно достичь чего угодно, достаточно разово применить особую советскую «магию»: взяться за ум, искренне захотеть трудиться. Впервые самостоятельно решив задачку по математике, Малеев утверждает, что «неожиданно из одного человека превратился в совсем другого». Чудо! В дальнейшем особых трудностей с учёбой него не возникает.
Что ж, пускай мир Носова на поверку оказывается сказкой, зато на юного читателя всё это должно воздействовать терапевтически, наполняя верой в себя. Порой это как раз то, что нужно.
«Записки школьницы» (1961)
Историю «Записок школьницы», по всей видимости, следует отсчитывать с конца 1930‑х годов, когда Ян Ларри предложил «Детиздату» выпустить его новую книгу для детей — повесть «Васькина тайна». После недавнего успеха «Необыкновенных приключений Карика и Вали» автор надеялся на продолжение сотрудничества, но получил отказ в категоричной форме. Перечисляя недостатки текста, редактор Наталья Теребинская в отзыве от 8 января 1938 года, в частности, пишет:
«Дети-герои не особенно верят в бога и, не задумываясь, доказывают, что бога нет. Эта сцена, где девочка Настя предлагает богу сломать сначала палец, потом руки, чтобы увериться, что бога нет, не может ни показать советскому ребёнку вред веры в бога, ни укрепить его атеистического понимания».
Отстоять «Васькину тайну» Ларри не удалось. Сложные отношения с цензурой, да и в принципе с советской властью в дальнейшем привели к тому, что в 1941 году писатель был арестован. 15 лет он провёл в заключении и только в 1956 году был освобождён и реабилитирован.
Будучи человеком упрямым, Ян Леопольдович не только смог вернуться в литературу после длительного перерыва, но и стал использовать в новых текстах старые наработки, отвергнутые «Детиздатом». Так, в «Записках школьницы», можно заметить следы эпизода, который не оценили в 1938 году:
«— Бог во всём помогает верующим! Он же такой всемогущий, что может всё сделать для человека, если человек будет молиться!
— А самого себя может поднять за волосы? — спросил Славка.
— Может! — сказала Марго. — Бог всё может! Любое чудо делает!
— Докажи!
— Что докажи? — растерялась Марго.
— Докажи, что он такой деловой! — толкнул Славка Марго. — Давай покажи хоть какое-нибудь чудо! — Он захохотал и плюнул на пол. — Пусть сделает чудо, чтоб плевка моего не было на полу!
Все захохотали. Мальчишки начали дёргать Марго за косички и свистеть. У нас всегда свистят, когда кто-нибудь заврётся.
Марго покраснела, как варёная свёкла, глаза у неё забегали, губы задрожали. Я подумала: „Вот заревёт сейчас так, что по всем классам прокатится ее рёв“. Но она вдруг завизжала, словно кошка, которой наступили на хвост:
— Бессовестные! Бессовестные! Ироды! Иуды! Все до одного попадете в ад!
Кто это такие Ироды и кто такие Иуды, никто из нас не знал. И про ад мы не проходили в классе.
— Куда, куда мы попадём? — поинтересовалась Нина.
— В ад! — взвизгнула Марго. — Вот куда! К чертям! В котлы с кипящей смолой! Варить вас будут в котлах! Черти! Вас! Вас! Всех! А тебя, — ткнула она пальцем в Славку, — повесят за язык. Над огнём будешь висеть!
— А тебя за что повесят? — спросил Славка.
— Меня никто не повешает… Не повесит! — поправилась Марго. — Меня ангелы вознесут в рай… А вы будете в котлах вариться! В аду! За богохульство! А я буду есть райские яблоки… И у меня на голове будет сияние!»
В оттепельные 1960‑е «Детиздат», успевший переименоваться в «Детскую литературу», спокойно относится к отходу от «правильной» атеистической пропаганды. Никто даже не обратил внимания на то, что воззрения Марго в итоге не получили достойного опровержения — скорее, наоборот.
Как-то раз девочка рассказывает одноклассникам, что в школе ей иногда помогают черти: «Найдите на парте сучок, прижмите его пальцем и трижды скажите: „Чёрт, чёрт, помоги. Чёрт, чёрт, отврати!“». По словам Марго, в результате её не вызывают отвечать урок, который она не выучила.
Ребята решают проверить, что будет, если к нечистой силе обратится сразу весь класс — не могут же совсем никого не спросить? Следующая вслед за этим сцена — просто какой-то Стивен Кинг:
«Когда Ольга Фёдоровна вошла, все прижали пальцы к сучкам на парте. Я тоже. Все зашевелили губами. Я тоже стала шептать позывные чертям. Не потому, что верю в чертей, а просто ради опыта. Интересно всё-таки посмотреть, что же получится. Но, честно говоря, мне безумно захотелось, чтобы Ольга Фёдоровна вызвала именно Марго и чтобы вкатила ей жирную-прежирную единицу. Пусть не суётся со своими чертями в английские уроки.
Ольга Фёдоровна села.
— Ну, уроки приготовили?
— Приготовили! — хором ответили мы громко и пошевелили губами. Наверное, все про себя добавили: „Никто не приготовил“.
Ольга Фёдоровна раскрыла журнал и вдруг побледнела.
Мы испуганно переглянулись.
Ольга Фёдоровна приложила руки к сердцу, качнулась, тяжело рухнула головою на стол.
Марго торопливо перекрестилась.
— Свят, свят, свят, — забормотала она. — Да воскреснет бог, да расточатся врази его! <…>
Ольга Фёдоровна лежала, положив голову на раскрытый журнал, опустив руки вдоль тела. На одной руке у неё чуть-чуть шевелились пальцы. Мы так испугались, что никто из нас не решался подойти к ней. Да и что могли бы мы сделать?»
В дальнейшем выясняется, что у учительницы было больное сердце и так уж вышло, что прямо во время урока у неё случился инфаркт. Но почему именно в ту минуту, когда ученики устроили эксперимент с чертями? Зловещему совпадению не находится объяснений, история как бы замалчивается. Вскоре Ольга Фёдоровна покидает школу, и больше о ней никто не вспоминает.
Надо сказать и о том, что «Записки школьницы» — одна из немногих книг, которая бросила вызов мальчиковой гегемонии в советской школьной прозе. Навстречу многочисленным Витям и Юрам вышла Галя Сологубова, которая была придумана автором вовсе не для того, чтобы читать мальчишкам наставления и очаровывать их в период полового созревания.
«Как мне известно, ни бабушка твоя, ни мама твоя никогда не дрались, когда ходили в школу. А почему же ты дерёшься?» — спрашивает у Гали отец. «Если ни мама, ни бабушка никогда не дрались — значит, они были ужасными слабаками», — рассуждает в ответ Галя. На замечания других взрослых — «Галка, ну почему ты не родилась мальчишкой?» — девочка отвечает: «По-моему, всё-таки девочки гораздо лучше мальчишек».
Пожалуй, Сологубовой везёт: жизнь не слишком часто пробует её на зуб. Не сравнить, к примеру, с тем, что переживает героиня «Повести о рыжей девочке» Лидии Будогоской: там и буллинг, и абьюзивные отношения с отцом, и другие передряги. И всё же появление сильного женского персонажа в довольно патриархальном советском детлите — само по себе дорогого стоит.
«Баранкин, будь человеком!» (1962)
В статье «Бессмертие текста» Михаил Родионов, ссылаясь на книгу Ревекки Кац «Альтернативная история литературы», озвучивает следующий вариант появления «Баранкина» — из рубрики «Где-то в параллельной вселенной»:
«Франц Кафка приходит в издательство со своим ещё не знаменитым „Превращением“, где его сначала посылают в отдел научной фантастики, а позже в редакцию детской литературы. Там ему настойчиво предлагают поменять таракана на какое-то другое животное и вообще не ограничиваться только одной метаморфозой. А невнятное имя Грегор заменить на вполне человеческое и весомое Юрий. После множества исправлений Франц Кафка возвращается с перекроенным текстом, редактор принимает его, но даёт новое название — „Баранкин, будь человеком!“»
Вполне захватывающее фантастическое допущение. Вот только с выводом, который делает на его основе Родионов — «вряд ли Кафка стал бы знаменит благодаря школьным приключениям Баранкина» — сложно согласиться. В своём роде сказка Валерия Медведева — то ещё кафкианство: стоит лишь счистить с текста налёт назидательности.
Итак, Юра Баранкин с Костей Малининым очень хотят перестать быть людьми: ведь это надо ходить в школу, а там домашние задания, двойки и прочая обязаловка. Лучше уж стать кем-то из зверят — у них каждый день воскресенье. Например, воробьём, муравьём или бабочкой.
Примечательна экзистенциальная перепалка Баранкина со старостой класса Зиной Фокиной:
«— Юра! — сказала Фокина серьёзно. — Я хочу, чтобы ты стал человеком в полном смысле этого слова!
— А если я устал… Устал быть человеком! Тогда что?
— Как это устал? — спросила Фокина изумлённым голосом.
— А вот так! Вот так! — возмущённо закричал я на Фокину. — Устал, и всё! Устал быть человеком!.. Устал! В полном смысле этого слова!
Зинка Фокина так растерялась, что просто не знала, что мне сказать. Она стояла молча и только часто-часто моргала глазами. Я боялся, вдруг она разнюнится. Но Зинка не разнюнилась, а как-то вся переменилась и сказала:
— Ну, Баранкин! Знаешь, Баранкин!.. Всё, Баранкин!.. — и вышла из класса.
А я снова остался сидеть за партой, молча сидеть и думать о том, как действительно я устал быть человеком… Уже устал…»
На помощь, как и у Носова, приходит магия, но на сей раз без кавычек. По словам Юриной мамы, «если по-настоящему захотеть, даже курносый нос может превратиться в орлиный». По нынешним меркам такой лукизм звучит не очень — ну да не о нём сейчас речь. Главное, что это правда работает.
Пройдя ряд трансформаций, ребята обнаруживают, что жизнь животных совсем не сахар. На воробьят охотятся кошки и мальчишки с рогатками. Бабочки могут неожиданно впасть в спячку, в которой они беззащитны (один их самых страшных эпизодов, когда герои находят спящую крылатую красавицу, и тут же прилетает воробей и деловито сжирает её) или попасться на иголку к «любителям природы». А муравьёв беспрерывно толкает на тяжелейшую работу инстинкт, а в перерывах они ведут с другими муравьями кровопролитные войны, неся большие потери.
Таким образом, под лёгкостью стиля и детской сказочностью у Медведева скрыта мрачная галерея страданий и смерти. И потому, приняв решение вернуть себе человеческий вид, герои выбирают из двух зол меньшее, чем нравственно перевоспитываются. Однако внутреннее перерождение всё же происходит — на это нам намекает финал повести, с определённого ракурса напоминающий готическую классику XIX века.
Начнём с того, что из муравья в человека превратился один Баранкин — Малинин погиб: его, пока он ещё был насекомым, успел съесть стриж. Далее целая глава уходит на описание мальчишеского горя: Юра мучается чувством вины и слёзно скучает по погибшему другу. И вдруг он встречает Малинина, живого — оказалось, его никто не ел, он тоже стал человеком. И наоборот — всё это время Косте казалось, что стриж слопал Баранкина, когда тот ещё был муравьём.
Странная история: почему каждый видел, как умер другой, но при этом все живы? Как будто что-то в духе рассказа «Случай на мосту через Совиный ручей» Амброза Бирса — посмертные шуточки угасающего сознания.
А дальше и вовсе жуть. Мы помним, что в зависимости от превращений речь героев меняется. Так, у воробьёв она чирикающая, а муравьи общаются, раболепно членя слова на отдельные буквы т‑а-к-и‑м в‑о-т-о-б-р-а-з-о‑м. И вот оказывается, что пребывание в муравьиных шкурках не прошло для Кости с Юрой даром. Они не только продолжают г‑о-в-о-р-и-т‑ь п‑о м‑у-р-а-в-ь-и-н-о-м‑у, но и становятся маниакальными трудягами, как будто и‑н-с-т-и-н-к‑т по-прежнему довлеет над ними.
Одноклассники, которые помнят Баранкина с Малининым весёлыми лоботрясами с обыкновенной речью, закономерно ужасаются столь резким переменам и бегут от них без оглядки. Но Юра с Костей не обращают на них внимания, ловя кайф от незнакомого им ранее трудоголизма.
На следующий день друзья приходят в школу самыми первыми — за два часа до начала уроков. Здание, которое они прежде ненавидели, манит их, словно гигантский муравейник. Бормоча по-насекомому, два бывших двоечника, тыкаясь лбами в школьные двери, ждут начала трудовых будней — чем не Кафка?
«— Ты чего это так рано заявился в школу?
— А ты?
— Я т‑а-к п‑р-о-с-т‑о… А ты?
— И я т‑а-к п‑р-о-с-т‑о…
— Понятно! — сказали мы вместе.Тихо, стараясь не шуметь, мы с Костей поднялись одновременно по каменной лестнице и приникли лицами к холодному и мокрому от росы дверному стеклу и стали молча ждать, когда нас пустят в н‑а-ш‑у ш‑к-о-л‑у. <…>
Прошло только десять минут, всего десять минут, как мы стоим с Костей на школьном крыльце, просто стоим и ждём, когда же наконец-то откроется дверь и нас пустят в школу, в н‑а-ш‑у ш‑к-о-л‑у».
На этом повесть кончается, не оставляя сомнений, что «Баранкин, будь человеком!» — это совсем не про то, что надо хорошо учиться. Это история об отношениях человека и социума, в которых вольнодумцы неизбежно терпят поражение. Старые Баранкин и Малинин исчезли навсегда — вот для чего сцена со стрижом, который будто убил каждого их них, а будто и нет. Новые Юра и Костя больше не оригиналы, не фантазёры, а послушные, пугающие роботизированной правильностью существа, которым только и надо, чтобы отворились школьные двери.
Конечно, можно сказать — повзрослели. Но кто сказал, что взросление, когда ты отказываешься от приключений и свободы в пользу официозного порядка и формальных поощрений в виде отметок — это так уж хорошо?
«Баранкин, будь человеком!» — кричали все, не понимая, что человеком, живым и непосредственным, Юра был раньше. Жаль. Но верим: придут новые бунтари. Может, хоть они никогда не повзрослеют.
Читайте также наши материалы про Яна Ларри:
— Архив Яна Ларри. О чём не расскажет Википедия.
— «Товарищ Сталин, только для вас»: как автор «Карика и Вали» отправил в Кремль марсианина.