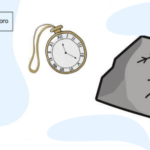Военный кинематограф — отдельный жанр мирового. В нём было множество фильмов, которые мы считаем великими: от всем известного «Апокалипсис сегодня» Копполы, преобразившего войну во Вьетнаме в сюрреалистический кошмар, до «Троянок» греческого поэта экрана Михалиса Какоянниса, который перевёл трагедию Еврипида на современный ему язык третьей волны феминизма и показал ужасы войны глазами страдающих женщин. Лучшие военные фильмы разных стран и времён объединяет одно — эти картины абсолютно антивоенные.
Советский военный кинематограф в этом смысле был частью мирового. Ни один фильм, на котором выросли поколения советских людей, не прославлял убийство. Напротив, отечественный экран сделал колоссальный вклад в дело мира. VATNIKSTAN рассматривает шедевры отечественного кино, которые эпоха за эпохой рассказывали о кошмаре войны.
Сорок первый (1956)
Во времена Гражданской войны красный отряд тонет в песках среднеазиатской пустыни. В числе красноармейцев — снайперша Марютка (Изольда Извицкая), на счету которой сорок убитых врагов. С сорок первым выходит промашка. Белогвардейский поручик (Олег Стриженов) избегает её меткой пули. После серии злоключений красная солдатка и белый офицер оказываются вдвоём на острове. Холодные волны обдирают камни, и так же постепенно обнажаются души идеологических противников.
Можно сказать, что море — главный герой фильма Григория Чухрая. Сначала песчаные барханы, по которым не пройти человеку, а только верблюду. А позже синие воды шумят за стенами глиняной мазанки, в которой фурия революции отдаёт своё наивное сердце белокурому полубогу, так непохожему на всех, кого эта девчонка встречала в жизни.
«Мать ты моя, глаза-то у тебя точь-в-точь как синь-вода».
Фильм получил Специальный приз Каннского фестиваля, и надо думать, что не за одни необычные для советского кинематографа намёки, подмывающие престиж государственной идеологии: красноармеец, вспоминающий Бога; казахи, у которых во имя революции отбирают верблюдов, создавая отчётливое ощущение, что красноармейцы просто ограбили людей; равнодушие местного населения к советской власти и её далеко идущим планам. Это не самое главное. Фильм разбивает сердце, когда меткая снайперша, вспомнив про идеологию, стреляет в любимого, а потом воет по-бабьи и качает на руках его труп. Будь она проклята, ваша война с революцией.
Комиссар (1967)
Комиссарша Красной армии Клавдия Вавилова (Нонна Мордюкова) ужасно некстати беременеет, а доктор где-то в городе, хотя она даже грозила ему маузером, отказывается делать аборт. Со скрипом получив у начальства отпуск на роды, она селится в семью украинского многодетного еврея (Ролан Быков). Первое примирение с самой собой в новой роли матери наступает после долгих разговоров с хозяйкой дома (феноменальная роль украинской актрисы Раисы Недашковской).
«Вы думаете, рожать детей это так просто, как и война? Пиф-паф — и готово?»
Необычайно интересно было бы рассмотреть запрещённый в СССР мучительный шедевр Александра Аскольдова с точки зрения современных феминистских веяний. Что бы сказали о фильме люди, придерживающиеся «новой этики»? Хорошо это или плохо, что женщина командует в армии? Хорошо это или плохо, что в какой-то момент она больше не хочет командовать? Хорошо это или плохо — носить кожаные штаны? А «бабьи» платья и платки? Но очевидно, что сама попытка изменить «комиссар» на феминитив пошла бы вразрез с историей. Героиня Мордюковой действительно комиссар. Бесполый чугунный идол, выкованный войной. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».
Женственность, женская природа и материнство приравнены здесь к самой человечности. Беременность и роды открывают для Вавиловой не мизогинное «место женщины на кухне». Они уводят её в сторону от жизни, в которой убийство — это норма. Отказавшись в конце фильма от сына, Вавилова снова идёт на войну, но никакой героизации в этом нет. Ей просто никто не предлагал мира. Только ужас ожидания смерти своего ребёнка, заколоченные окна, видения будущего Холокоста, отчаяние, бессилие и боль. Когда выбор даётся между действием и беспомощным сидением в подвале под грохот выстрелов, пока город пытается взять то одна, то другая власть, сопротивление и борьба лучше подвала.
Женя, Женечка и «Катюша» (1967)
Вчерашний студент Женя Колышкин (Олег Даль) возвращается после ранения на фронт, где влюбляется в прекрасную связистку Женю Земляникину (Галина Фигловская). В неё, конечно, влюблены все бравые ребята, а Женя — недотёпа, живущий в мире своих фантазий. Но тонкий-звонкий интеллигентный мальчик покорит грубоватую девушку.
Мы привыкли к максимально мрачному показу войны в советских фильмах, где фоном служат разрушенные поселения и даже природа жестока к людям: стоят лютые морозы, идут вечные дожди, сапоги тонут в грязи, ветер царапает измученные лица. А Владимир Мотыль начинает с жёлто-зелёного поля одуванчиков, и дальше с экрана брызжут сочные краски. Золото осени в одной сцене, разноцветные витражи в другой, пёстрые наряды дам и кавалеров из фантазий романтика Жени. Могучий краснощёкий обжора (Михаил Кокшенов в своей лучшей роли) хрустит рубиновой редиской и оранжевой морковкой. И это война? Странно говорить такое о военном фильме, но он очень красив. И наполнен юмором — некоторые сцены смешны до колик.
— Товарищ гвардии лейтенант, проснитесь.
— Что, немцы?
— Колышкин на двор просится.
— Косых, мы не спали трое суток. Я просил будить меня только в крайних случаях. Какого чёрта?!
Война «заземлена», лишена ореола «священной», почти сведена до набора забавных бытовых сценок. Но ещё со вступительных титров песня Окуджавы про капли датского короля внушает беспокойство, заставляя ожидать трагическую развязку. Хотя бы потому, что мы не знаем — что это за капли, зачем их пить, какую тайну о самых страшных на свете вещах знают романтики и эскаписты? Колышкин, который столетия назад, конечно, был бы декабристом, о которых Мотыль позже снимет «Звезду пленительного счастья», бежит в мир мечтаний, потому что окружающая действительность и современность невыносимы. И постепенно заражает меланхолией своих товарищей, которые поначалу подвергают его нешуточному буллингу — очень редкая вещь в советском военном кинематографе, где солдаты обычно показаны исполинами духа, которые ни за что не опустятся до драк между собой, бытовой жадности и довольно злых сплетен о женщине у неё за спиной. А тут всё это есть вместе с той самой трагической развязкой, превращающей взятие Рейхстага в очень печальный праздник. Даль отворачивается от экрана и плачет. Его опущенные от горя плечи — это и есть 9 мая, День Победы.
Восхождение (1976)
Белорусские партизаны Сотников (Борис Плотников в дебютной роли) и Рыбак (Владимир Гостюхин, ещё вчера таскавший в театре реквизит) отправляются раздобыть еды и попадают к полицаям. Допрос ведёт следователь (Анатолий Солоницын), который велит пытать первого, а у второго от страха развязывается язык. Ночью в подвале оказываются изувеченный Сотников, уже почти согласившийся пойти в полицаи Рыбак, деревенский староста, к которому они случайно забредали, деревенская женщина, в доме которой их взяли, и еврейская девочка, которую прятали в деревне. Утром — казнь.
Фильм украинки Ларисы Шепитько по повести белоруса Василя Быкова сыгран преимущественно русскими актёрами плюс юная еврейская артистка Вика Гольдентул. Эта киногеография сама по себе напоминает, что в Великой Отечественной сражался и страдал многонациональный народ. Снят фильм как бы в двух пластах: голод, холод и ужас реальности, сплетённые с историей вне времён и стран.
Чиновники от культуры скрипели зубами, понимая, что все эти белорусские партизаны и работающие на немцев следователи на самом деле — Иисус, Иуда, Пилат и другие. Шепитько даже поисками главного исполнителя занималась по принципу «чтобы был похож на каноническое изображение Христа».
Название фильма, придуманное мужем Шепитько Элемом Климовым, который в тот период начинал подготовку к съёмкам «Иди и смотри», ближе к концу начинает читаться как «Вознесение». Запредельная музыка Шнитке выносит из контуров зримого мира. Палачи мертвы духовно и в вечности. Гибель всех, сохранивших человеческое достоинство, становится шагом к бессмертию. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её».
При этом наиважнейшее, пожалуй, достоинство неопритчи Шепитько не в уроке нравственности, а в страхе, который режиссёр на физиологическом уровне заставляет прочувствовать зрителя. Никогда дыхание смерти не неслось с экрана с такой силой. Шепитько протаскивает нас вместе с персонажами через соблазн предательства, ужас ночного ожидания казни, белым слепящим утром — по ледяной белорусской Голгофе, бредя по которой Рыбак одержимо шепчет: «Я убегу, я убегу…» Потом — на виселицу и в петлю. Фильм становится репетицией личной смерти смотрящего.
После «Восхождения» абсолютно очевидно, что люди, развязывающие войны, воспринимают смерть как туманную абстракцию, не имеющую к ним отношения. Им бы пройти хотя бы через опыт просмотра этого фильма, чтобы один раз ощутить, как затягивается на твоей шее верёвка, как вылетает из-под твоих ног лавка, как последний хрип забивается в горло, а дальше — тишина. Глядишь, войн бы в мире поубавилось.
Двадцать дней без войны (1976)
В конце 1942 года фронтовой корреспондент Лопатин (Юрий Никулин) приезжает в двадцатидневный отпуск в Ташкент. Ещё в поезде он видит женщину (Людмила Гурченко), которую позднее встречает в городе.
Алексей Герман снимал фильмы со вполне советскими героями, не был замечен ни в каком диссидентстве, Кира Муратова называла его фильм «Мой друг Иван Лапшин» «прославлением советской власти», но советская власть едва терпела режиссёра. «Проверка на дорогах» легла на полку до времён перестройки, «Двадцать дней» получил низшую прокатную категорию, то есть фильм показывали только днём в домах культуры. Власть обвиняла Германа в «дегероизации» подвига советского народа, «очернении» жизни 1930‑х годов и прочих грехах. Так болезненно чиновники реагировали на стремление Германа к максимальному реализму, даже натурализму съёмок и снятии какой-либо полировки с действительности. У Германа не носят лавровые венки.
Невозможно представить, чтобы Лопатин, которого автор сценария Константин Симонов писал с себя, хотел каких-то парадов и прославлений в веках. В начале фильма после воздушного налёта Лопатин помогает вытащить из воды труп боевого товарища. Что отображается на его лице? Ничего.
Война давно стала работой, фактом повседневности, въелась под кожу, обросла миллионом особенностей и примет. Лопатин едет в поезде, удивляясь огням городов: он успел отвыкнуть от этого зрелища. Тыл лишь отдалённо напоминает нормальную жизнь, но всё равно происходит некая нормализация, вырабатывается сила привычки. Дали хлеба? Праздник. Убил врага? Убивай дальше.
— Что испытывает человек, зная, что он убил? Удовлетворение, восторг, наслаждение, что?
— Удовлетворение? Да, пожалуй. А слова „наслаждение“ и „восторг“ как-то мало подходят к войне.
Основательница журнала «Сеанс» киновед Любовь Аркус рассказывала, что «Двадцать дней» влюбили её в кино и заставили поступать во ВГИК. Она посмотрела картину Германа ещё в юности и оценивала как «фильм об очень усталых людях и очень усталой стране». Усталой тихо, покорно, безмолвно. Заковав себя в стоическое смирение, люди переставляют ноги из сегодняшнего дня в завтрашний. Проблеск — любовь, которой на всё про всё отведено несколько дней в эвакуации. Надо, наверное, вообще ничего не знать о войне, чтобы что-то из этого хотелось «повторить».
Нога (1991)
Московские студенты Мартын (Иван Охлобыстин под псевдонимом Иван Чужой) и Рыжий (Иван Захава) с шутками-прибаутками и чтением строк из Данте служат в Таджикистане, где Мартын влюбляется в местную девушку Камиллу. Проходит время, и ребята оказываются в Афганистане. Рыжего убивают моджахеды, подбрасывая его расчленённое тело советским солдатам, и Мартын немножко сходит с ума, отправляясь мстить сразу всей деревне. После обстрела он оказывается в госпитале без ноги и, кажется, сходит с ума уже не немного. Его преследуют кошмары, и крепнет ощущение, что его оставленная в Афганистане нога выросла в отдельного человека.
Перестройка породила немало чернухи и эксплуатационного кино, что было вполне ожидаемо: 60 лет под худсоветами и цензурой остались в прошлом, и кинематограф «прорвало». Но сквозь сорванную плотину вместе с накипью прошли удивительные авторские фильмы, непохожие на то, что снимали в прежнем СССР.
«Нога» — культовое кино с мистическим ореолом. Единственный работа режиссёра Никиты Тягунова, который, узнав первую славу после успеха фильма, покончил с собой, как и его персонаж. Фильм по сценарию рано умершей Надежды Кожушановой, писавшей историю по воспоминаниям своего друга-афганца.
Консультантами фильма указаны афганские ветераны. Настоящие солдаты-калеки появляются в сценах в госпитале. Охлобыстин рассказывал, что после сеансов к нему подходили ветераны и благодарили его за роль. Кинокритики называли «Ногу», русифицированную версию рассказа Фолкнера о солдате Первой мировой, «лучшим антивоенным фильмом на свете».
Это жестокий шизофренический мрак о гибели души, которая после неправедной, бессмысленной, развязанной непонятно зачем войны, никогда не станет цельной, никогда не вылечится, никогда не узнает жизнь. Для мальчика-солдата всё было кончено ещё тогда, когда у него была нога. Ключевая сцена картины — после поездки к Мартыну, от которого остался обрубок человека, его старший брат, которого сыграл Пётр Мамонов, с помощью одного нецензурного слова выкрикивает из себя всё, что он может сказать. В 2014 году в российском кино запретили мат. А жаль. Других слов нет.
Читайте также «Шекспир, Высоцкий и чума. Европейское Средневековье в советских фильмах».